La rencontre

Если на минуту отвлечься от серых пальто, тридцати семи рублей в кармане, "передайте, пожалуйста, за проезд" и кипящей воды для макарон, то где-то на восемнадцатой секунде вы обязательно встретите себя. Шестым от окошка в кассу для оплаты ритуальных услуг совести. Одним единственным актером в мизансцене спектакля "Седьмое февраля и его невыспавшиеся друзья". Бесконечно несуществующим здесь и сейчас, как разница между покупкой и продажей человечности на рынке компромиссов. Хотя, это может быть и двадцать седьмая секунда.
Знавал я одного работника внутренних дел, который раз или два в месяц встречал себя на углу улиц Рудакова и Горького. Останавливался, закуривал, но никогда первым не начинал разговор. Выслушивал несколько едких замечаний о своем внешнем виде от отражения в луже, потом пропускал мимо ушей сетования внутреннего голоса и, когда уже в беседу вступала рефлексия, то не выдерживал и начинал злиться. Нет, проблем с психическим здоровьем у него не было. Уж поверьте, в его ведомстве за этим следили строго. Что же тогда? Человеку просто не повезло однажды встретиться с собой и поговорить по душам. Теперь эти встречи были частыми.
Так вот... Он начинал злится, ведь его последний собеседник вооружался законодательными актами, нравственными принципами и даже взывал к случайным цитатам из христианского вероучения. "Коля, - обращался он-внутренний к себе-внешнему, - ты же неплохой человек. В "художку" ходил в школе, Врубеля любишь, вчера вот Кизи читал, а людей по лицу бьешь. Ну зачем? Что, значит, кого? Ну вот третьего дня гражданина Л. ударил. Было же? Было. Ну и что, что его жена тебя третий раз вызывает за месяц? Ну да, пьет и бьет ее. Как это - по-другому не понимает? Коля, значит, не те слова подбираешь. Не те, Коля, понимаешь? Что, значит, ты не психолог? Ах, женщину жалко и детишек их? Понимаю. Но насилие когда-нибудь что-то решало? Ладно, а вот того в очках зачем ударил телефонной книгой по голове? Вор, говоришь, он и врун? Но так человек же, как и ты. По-другому нельзя? Можно, Коля, можно. У всех есть душа. Сомневаешься? Зря. Человек без души не может - она хоть как-то да проявит себя. А ты не Господь Бог, чтоб человека наказывать. Что я запою, когда он кого-то убьет? Так ведь и ты от этого не застрахован. Все, молчу".
Накричавшись на себя, Николай бросал окурок в урну и шел на работу. Выслушивал жалобы, признания и распутывал бытовые трагедии. А потом возвращался обратно. Покупал себе чего-то лирического и садился за старый письменный стол. Смотрел в себя, но почти ничего не находил удивительного. Там уже лет пять был заброшенный деревянный трактир, в котором за пианино сидел человек и играл "Riders on The Storm". Над его головой располагалась дыра в крыше, сквозь которую постоянно шел дождь. Капли падали пианисту на шляпу, стучали по клавишам инструмента и врезались в хмурый виски надтреснутого стакана. И так раз или два в месяц. Николаю там вроде было и уютно, но всегда одиноко, всегда не по себе.
"Знаешь, - говорил он мне, - пора, наверное, мне искать какую-то другую работу. По душе что ли. Не могу я уже с этими диалогами жить. Пойти на шахту, ну чтоб поменьше с людьми общаться. Каждый приходит к тебе со своими проблемами, не просто там "трудностями", а, действительно, с проблемами. Когда больше некуда уже идти, а ты по долгу службы начинаешь вникать во все это мессиво, все эти днища. Каждый раз выбирая между "неправильно" и "не очень неправильно". Ну да, привыкнуть можно. Но лучше уж подальше от таких привычек. Люди как бы думают, что ты знаешь, как правильно. А правильно никак. Потому что у каждого там внутри свое "правильно". И у меня оно тоже свое это "правильно". Я же не спаситель мира, хотя в уставе и написано по-другому. А вот эта грязь - она ведь не в уставе, она в тех самых душах. Но ты забей, по уставу сопли не положены. По нему даже человеком не положено быть".
А, может, ну эти все размышления к чухонской матери, а просто быть, как все. Но откуда мы знаем, как это? Ведь каждый из нас тоже раз или два в месяц встречается с собой. Правда, перекрестки и улицы другие. Не так ли?
Что-то в этом дне было не так

Утром он обычно делает себе кофе - асфальтный, с двумя ложками полседьмого и парой страниц Камю. Но сегодня был чай. Первый за долгие месяцы ведутных сомнений. Первый за короткий отпуск в чужих снах. Первый в доме одной единственной строчки, которую он так и не смог написать. С ним за столом пили чай еще двое - усталость и туманное небо. Довольно, кстати, частые гости. Он поздоровался с каждым из них, предложил варенье из прошлогодней грустники и, не прощаясь, закрыл входную дверь. Не важно, как его звали, не важно, что он любил, не важно, почему просыпался каждый день. В его словах уже ничего не было важно.
*
У подъезда к нему обратился пенсионер из соседнего дома. Вы, верно, тоже встречаете таких - одетый в серое пальто для стариков, говорящий несколько сбивчиво, но достаточно вежливо, чтобы остановиться и учтиво выслушать несколько замечаний от делегата Прошлого.
- Главное, молодой человек, знаете что? Главное - здоровье. Вот если оно будет, то будут и силы. А вам силы нужны.За вами будущее. Может, у вас оно получится лучше, чем у нас. Не может же быть всегда плохо. Когда будет? Будет, будет. Просто это нужно заметить. У меня была собака несколько лет назад. Ну да, старая уже, гадила везде. А вот не стало ее и что? Откололся кусочек мира. Не такого уж и плохого мира, как можно было думать раньше, когда она была еще жива. Так что вы пытайтесь делать лучше. Мне, наверное, это уже не нужно, да и не увижу. А еще - смотрите людям в глаза. У вас они светлые, хоть и грустные. Но именно такие грустные глаза и способны сделать мир лучше. Грустный человек лучше злого и самоуверенного. В нем еще есть надежда и желание.
Старик окончил разговор так же неожиданно, как и начал. И пошел дальше. Неторопливо, будто рядом с ним переваливаясь с бока на бок медленно шла старая собака.
*
К полудню, после двух очередей и прилипшей к языку ссоры, он оказался в Сквере. С горки по накатанному льду съезжали мальчишки. Раскрасневшиеся, хохочущие, дерущиеся в шутку. У стелы с именами умерших за чье-то светлое будущее он закурил. Пристально всматривался в детские забавы, слегка ревнуя детей к их беспечности и прогуливанию уроков. А потом один из крупных мальчишек толкнул младшего в спину. Тот нескладно скатился вниз на спину и закричал. Мальчишки на несколько секунд застыли, глядя на сверстника, и побежали кто куда.
Он подошел к кричащему и понял, что тот подвернул ногу. Хотя, может, и сломал.
- Так... давай потише. Сильно болит?
- Дааааа, - захныкал упавший. - Я же не хотел. Я за компанию сбежал с уроков. И кататься не хотел. Боюсь. А Миша все "Давай! Давай!". Болит. Очень.
Он взял паренька на руки и понес в больницу. Идти нужно было где-то метров 500, но тот был не такой уж и легкий. По пути задавал мальчишке вопросы. А тот отвечал через всхлип.
- Нет, не хочу хорошо учится. Хочу стать конструктором. Изобрести настоящий космический корабль и улететь от всех. Туда, где нет школы и этих дебилов. И домой не хочу. Там папа с работы придет пьяный и побьет за то, что ногу сломал. И мама будет плакать. А когда я улечу, то стану Звездным Лордом. Ну знаете, как в "Стражах Галактики". И буду много летать. И еще кошку с собой возьму, она постоянно у нас спит и там тоже будет спать. Чем кормить? Космическими мышами, чтобы они припасы не ели... И чтобы никто не говорил что нужно делать, а что не нужно.
Он принес мальчишку в травмпункт и оставил там. Медики сказали, что свяжутся с родителями. А паренек уже не плакал, он просто смотрел куда-то в небо за окном.
*
Зимой проблемы людей темнеют рано. И уже в свете фонарей, когда он шел домой, на заснеженном бордюре сидела девочка-подросток и плакала. Странно, что ему сегодня встречаются такие люди. Так он подумал и не смог пройти мимо. Подошел. Спросил - что случилось?
- Ничего. Жить не хочу. Вот и все, - ответила она. - Не хочу жить. Надоело. Для всех я плохая. Все меня бросают и ругают. Зачем вот так жить?
- Вообще-то уже поздно. И тебе бы пора домой, - ответил он. Ему не была свойственна роль психолога. Он и сам с собой не мог разобраться.
- А зачем? Там мать, которая меня ненавидит. Сказала, что лучше бы меня не рожала никогда. И парень бросил. И поздно уже куда-то идти. Я лучше тут замерзну.
- Слушай, - сказал он. - Жизнь такая штука, что в ней полно плохого и хорошего. "Не может же быть всегда плохо. Когда будет? Будет, будет. Просто это нужно заметить", - вспомнил он слова старика. - Вот ты же в войну здесь была? Была. Плохо было, верно? Страшно? Жить хотелось. А теперь войны почти нет. Ведь лучше? Нужно просто выжить сквозь все эти "плохо". Понимаешь? Не сдаваться и делать все самой. Ведь, если ты осталась жива, когда стреляли, то это же не значит, что для того, чтобы сейчас умереть. И счастье твое никто тебе не подарит, если сама этого не захочешь. "Грустный человек лучше злого и самоуверенного. В нем еще есть надежда и желание".
Он поднялся. Протянул девочке платок и достал из кармана последние деньги:
- Держи, это тебе на такси. Домой.
Она смотрела не него удивленно. Будто где-то там внутри нее перестали стрелять и отменили комендантский час.
*
Дом издали встретил его все той же ненаписанной строчкой. Все той же молчаливой ухмылкой торговца гнилыми апельсинами. Впереди был отдых и чашка чая.
- Слышь, сосед, - обратился к нему выпивший мужчина на скамейке. - У тебя закурить найдется? О, спасибо! Чего домой не иду? А мне и здесь хорошо. Жена там ругать будет, дети орать, потолок неприятно смотреть. Вот я, прожил свои 54 года и что? Да ничего. Вовремя просто не свалил отсюда. А теперь уже поздно. Я же когда-то там космонавтом хотел стать. Знаешь, как бы это хорошо было - в Космос. Что - водки там нет? Да кому она в такой тишине нужна. Я же не пьяница. Я же когда-то хотел стать космическим пиратом. Ну вот, чтобы за этим мелофоном гоняться и никто тебе не указ. Ни начальства, ни жены, ни долгов. Ну, может прожил бы недолго. А так устал я от этого, пойми. Хоть бросай все и на фронт. Сам, говоришь, устал? Да куда тебе. Ты ж еще уехать можешь. Ладно, слышишь - звонит уже. Пойду.
"Сосед" встал и пошел. Прихрамывая на одну ногу - как это делают пираты на качающейся палубе.
*
Что-то в этом первом февральском дне было не так. Может, чай вместо кофе, а, может, люди со своим несчастьем на поводке. Он знал точно - кто-то что-то хотел ему отчаянно рассказать. Поделиться своей черствой краюхой, чтобы ее не выкинули на свалку. Но кто?
В его комнате горел свет. Но чай он пил уже один.
L'idée

Ничто так не завораживает, как Превращение. Идеи в материю, материи в бестелесную сущность, а той в пустоту. Как одно перерождается в иное, а единое распадается на составляющие. Завораживает сам процесс. Соединение, расщепление, взаимодействие и отторжение. Все имеет основания и последствия. Но вряд ли мы когда-нибудь сможем отыскать первопричину и стать свидетелями окончательного результата. А раз мы неспособны охватить всю картину целиком, то нам остается быть лишь наблюдателями, следя за самим движением.
***
Ее квартира напоминала табакерку, в которой повесились, как минимум, пять-шесть чертей. 30 квадратных метров нелепости, разочарований, скуки, упирающихся в подоконник ног и ноутбука на полу с тремя немытыми кофейными чашками. Ах, да... еще и пепельница с отколотым краем.
Кристина. Крис. Тина. Крейзи. Кто как называл ее из тех, кто время от времени навещал этот ландшафтный парк одиночества. Цвет ее волос менялся в зависимости от времени года, а поступки - от прочитанных книг. Читала Тина много, чтобы забыть о минутах, которые ей нужно проводить в этих 30 метрах. Нужно ли? Пожалуй, нужно, ведь больше ей некуда было идти. Да и ходить она не любила, как и общаться. В общем-то, смысл ее бодрствования в реальности заключался в том, чтобы делать то, что нравится.
Она не была глупым человеком, просто ей не нравилось все то, что было за окном, как впрочем и за стенами тоже. "Пускай они сами там разбираются со своими войнами, авариями, несправедливостью, преступностью и митингами", - думала она, берясь за новый фриланс-заказ. А вот книги... Было в них много чего такого, что заставляло сокращаться казалось бы омертвевшие мышцы чувств. Некие "электрические разряды". Вот тут погрустить можно, а тут и улыбнуться. А это даже заскринить. Эти "цитаты" были своеобразной коллекцией, но не остроумия, а моментов собственного "чувственного реагирования".
А потом Крис превратилась в идею. Да-да, однажды утром она проснулась после какого-то кошмара и потеряла материальность. Она словно бы и продолжала жить в своих 30 метрах, но уже точно знала, что они находятся в чьей-то голове. Ее кто-то постоянно обдумывал, кто-то посещал, заваривал чай (который она раньше не любила), рассказывал истории, вспоминал, ощупывал взглядом. Но кто это был?
Жизнь стала не такой уж и скучной - появился кто-то. О нем тоже можно было придумывать истории. Строить догадки, давать имена, выгонять и просить вернуться. Конечно, кто-то мог бы подумать, что это помешательство, помутнение разума или игра с призраком в прятки. Но, во-первых, Крейзи было на весь мир наплевать, а во-вторых - она никому не собиралась говорить о своей идейности.
А потом она стала исчезать. Словно ее руки цементировали в слова, создавая ей всего один день? месяц? год? в чьей-то жизни. Идеи ведь надолго не задерживаются в головах. Ее стали растаскивать по абзацам, резать на строчки и рифмы, переименовывать, сдирать последние чувства. Ведь и идеи сами по себе просто так не уходят. Их нужно исчерпать до последнего ногтя, чтобы ничто не начинало гнить и разлагаться.
Она не кричала, не умоляла. Она ненавидела. Странное и сильное для нее чувство. Чувство, которое ей нравилось. Из-за своей реальности, подлинности, исключительности - огромный экспонат в коллекцию. Она стала умирающей идеей, которая ненавидит. У нее забирали то, чего в ней не было, когда она была реальным человеком - настоящих чувств. Тина стала уничтожать того, кто ее обдумывал. Изнутри, выжигая метр за метром, не оставляя камень на камне. Обезличивать, обездвиживать, обезнадеживать. И последнее, что ей оставалось в этой борьбе - покончить с собой.
***
Сентябрь. Хороший месяц, чтобы что-то начать сначала. На гранитном парапете фонтана сидит уже немолодой мужчина и что-то пишет в своем блокноте, рисуя на полях наброски к тексту. Допивает кофе из бумажного стаканчика, пристально смотрит на блокнот, а потом вырывает из него несколько страниц. "Нет, так не пойдет, - бормочет он себе под нос. - Таких не бывает. Слишком скучно". Встает, закуривает сигарету, бросает скомканные листы и стаканчик в урну, и идет дальше, глядя на окна готовящихся к вечеру квартир.
Le nom

У каждого имени есть своя температура и цвет. Вот это похожее на апрельское небо, рядом с ним - шалфейный рассвет, чуть поодаль прячется смех первого поцелуя, а возле перил лестницы, ведущей на крышу, с надменностью смотрит полночное чаепитие. Каждое из имен произносится по-разному и нет двух человек, которые чувствовали бы их температуру и цвет одинаково.
Для меня из многих имен самое необычное, хоть и звучит оно вполне просто - Татьяна. Иногда я смотрю сквозь него на вечернее солнце и лучи рассыпаются тысячами оттенков. Это имя, как калейдоскоп, в котором нет двух похожих узоров. Камешки и осколки стекла сталкиваются, переворачиваются и меняются формами и смыслами. Здесь чувствуется 81 километр вдоль заснеженной степи, кухня с зеленым пледом, остывающий кофе в термосе, сотни книг, прочитанных чужими глазами, ночи на вокзале, встреча со смертью на набережной Невы, лесная тишина, прохладные руки, вырезанные из воспоминаний снежинки, крики и шёпоты, медная лампада маленького счастья. В этом море я чувствую, что мои слова лишь тонущий корабль-песчинка без парусов.
Да, это всего лишь имя. Но мне не хватит всех слов этого мира, чтобы описать его цвет и температуру. Речевой аппарат человека слишком прост, чтобы им говорили чувства. Для этого нам дана тишина. Та самая, в которой всегда все понятно без слов. Чтобы описать имя нам даны объятья и прикосновения. Мы обладаем способностью сниться и жить, даже если умерли. Чтоб говорить о настоящих именах у нас есть другая речь, которую не передают буквы и звуки. А Татьяна? Это лишь ключ к иному миру, неисчерпаемому в своей бесконечности чувств и мыслей.
L'araignée

Над моим монитором живет паук. Ну, как паук... скорее паучок. Из тех, что принято называть оконными или долгоножками. Конечно, у него есть имя - Гена. И даже фамилия - Диоклетиан. Отчество? Уж простите, не осведомлен. С его батюшкой судьба нас так и не свела.
Большую часть времени Геннадий проводит в подвешенном состоянии, не двигаясь. Чем зарабатывает на жизнь и как питается? С подобными вопросами стараюсь к соседям не приставать, считая это проявлением неучтивости с моей стороны. Живет, да и живет. Ко мне не цепляется, домашнему хозяйству ущерба не приносит, на гибель мира не сетует.
Иногда, в минуты словопоиска, я пытаюсь понять его неподвижное существование и, знаете... Мне кажется, что Геннадий не просто самодостаточное членистоногое существо, но и обладает довольно сильным характером. С чего бы это? Ну, во-первых, он неуклонно следует своим жизненным принципам и убеждениям. Во-вторых, уважает мое личное пространство и не лезет с ненужными советами, считая, коль мне это будет нужно, то я и сам спрошу. А, в-третьих, согласитесь, для того, чтобы сохранять покой в течение нескольких часов, необходима изрядная сила воли.
Не знаю, но, может, на всё это повлияло его соседство с двумя книгами - "Ма-цзы: пустое зеркало" и Мацуо Басё "Великое в малом". Насколько я помню, в первой написано:
Погрузись в тишину.
Закрой глаза.
Почувствуй, как замерло твое тело.
А теперь обрати свой взгляд внутрь себя с безоглядностью, немедля,
будто это самое последнее мгновенье в твоей жизни.
Глубже и глубже.
Ты безошибочно достигнешь центра.
Лишь в центре, лишь в этом истоке жизни ты - будда. Оттуда тебе открывается вся Вселенная, твое собственное пространство.
А во второй есть такой хайку:
Осени поздней пора.
Я в одиночестве думаю:
"А как живет мой сосед?"
Думаю, что у Гены всегда "осени поздней пора". Его голова обращена на север - к солнцу, словно он никак не может надышаться последним теплом перед надвигающейся зимой. И еще мне кажется, что он пытается убить в себе паука, чтобы отречься от данной ему природой сути. В каком-то смысле, Геннадий даже бунтарь. Инсургент покоя и тишины в этом суетном мире. Бесстрашно повешенный вниз головой самим собой. В знак протеста. С заявлением в трех экземплярах об уходе в свой сетевой аскетизм.
У него могло быть много жизней, много воплощений, но он всегда возвращается в одно и то же место - угол над моим монитором. Будь он солдатом дальневосточного фронта, или жертвой табачных запретов, или замершим на скамейке пассажиром поезда, который отменили еще в прошлом году. Геннадий существует только здесь и сейчас. Без прошлого и будущего. В своем покое и одиночестве. Хотя, думаю, он все же не одинок - ведь в минуты словопоиска я думаю о нем и пытаюсь понять его неподвижное существование.
Fontaine de jouvence

Молодость не уходит от нас. Это мы по своей воле и с высоко поднятой головой сами покидаем ее. Хлопаем перед веснушчатым личиком дверью. А потом, решив ее открыть, страдаем, что за ней никого не оказалось. Да, эта своенравная особа всегда уходит, если хочешь немного побыть взрослым. А немного нельзя. Немного не получается. Немного взрослыми, как впрочем и мертвыми, не бывают. Это - раз... и уже венки, застолье, контрабас.
Взрослеть. Что это значит? Не знаю, пробовал - сказали, мол что-то не похоже. Что-то не то. Сказали, слишком по-детски. Сказали, лучше бы в космонавты подался. Или партию какую-нибудь всем сердцем принял, до глубины поседевшей души. А я не могу - мне хочется обменять сверчка в спичечном коробке на дохлую крысу с веревкой и непременно огрызком яблока в придачу. Хочется за кого-то заплатить в автобусе, поговорить с бродячим псом об осени и кинуть снежком в какую-нибудь студентку с тубусом чертежей.
И еще я думаю, что повзрослеть - значит перестать удивляться. Да, это значит сдаться на милость скуки, потерять ту часть мира, которая лежит за панцирем огромной черепахи. Закруглить ее, чуть-чуть сплюснуть и сказать, что Бога нет. А значит нет чудес, нет волшебства, нет летающих фургонов, океана в конце улицы и мятных конфет, превращающих тебя в невидимку. Значит ощущать внутри себя оседающую на всем пыль однообразия и усталость.
В какой-то период я стал меньше читать. Меньше хоронить себя в чужих мирах. Но больше писать, выдумывая собственные. И, конечно же, рассказывая о своих "удивлениях" и открытиях, создавать свои гробницы. Я не могу больше читать - мне хочется спорить с автором, хочется обнять его, сводить на террикон, подарить кусок ржавой "колючки" и вместе съехать со снежной горки. И это только с автором, не говоря уже о героях. Почему так? Наверное, где-то истончилась грань между двумя мирами. Книги стали реальными, а в окружающем мире я начал видеть чудеса - большие и малые, не имеющие названий и даже образов. Я чуть по-другому стал видеть людей, их поступки и кипящее варево бытия. Ну а какое уж тут взросление?
Взрослеть - значит быть сломленным. Положенным обыденностью на хребет и с хрустом сломанным ритуалами. Вот этими всеми - сходить за сигаретами, купить на завтра хлеб, найти второй носок, отвести ребенка в садик, сходить на собрание жильцов дома. Да-да, от этого никуда не уйдешь. Оно рядом и без выполнения "должного" - не протянешь, но... Вот как раз на этом самом "но" и танцует невзрослость. Можно прожить рядом с девушкой, допустим, лет пятнадцать, но она будет гораздо моложе утомленных своими Д-В-А-Д-Ц-А-Т-Ь-Ю "маргарит". И вроде смотришь на человека - все те же черты, все тот же голос, но... Перед тобой летний день, то пасмурный, то солнечный, но тот, которым ты живешь постоянно. Один единственный день длиною в бессмертие.
Я честно, честно не знаю как это - взрослеть. И это странно, видя у себя уже седые волосы, слыша вокруг "ну что ты, как маленький, тебе же... дзинь-дон-дон... лет", чувствуя, как устаешь за день и спишь по десять часов. Но взрослеть - нет, я не хочу и не желаю, даже если нужно. Ведь что это будет за мир, где в принтерах не живут духи, горгазовцы не ходят с ручными драконами, а живущий на третьем этаже сторож не бегает за кефиром в 1967 год?
L'excavation

Глядя на окружающих, я замечаю, что их чувственный мир со временем превращается в горные выработки. Первыми истощаются самые драгоценные ископаемые - ненависть, любовь, страх, стремление к счастью. И вот через десяток-другой эпох руда уже идет вперемешку с породой, превращаясь в злость, интерес, разочарование и снисходительность. Но и они спустя несколько "выполненных планов" иссякают до отвращения, равнодушия и раздражения. А когда карьер вовсе опустошается, то за ненадобностью его заполняют мутной жижицей жалости и сожаления. И, стоя на вершине отработанной породы, не остается иного выбора, как прыгнуть на самое дно и... снова начать любить.
Иные

Всегда говорю - чудеса где-то выше нас. Поэтому люди их и не замечают. Людские взгляды зачастую прикованы к земле. А если уж и поднимутся, то лишь для того, чтобы кто-то с сожалением сказал: "Я снова забыл свой зонтик дома". Не бойтесь прослыть отъявленным романтиком (пусть циники и прагматики изойдутся на десятипроцентную желчь) - поднимите выше подбородок. Сверху на вас смотрят иные, пришедшие из прошлого и будущего. У них нет имен и линий жизни. Они не нуждаются в именах и биографиях. В их квартирах живут пауки, живые вазы и выброшенные воспоминания.
Их тени - это трещины, замаскированные под сметы на ремонт фасадов и крыш. Их голоса - искаженное эхо закипающего чайника в преддорожной суете. Их шутки - суетливые бабочки между оконных рам в ноябре.
Я не знаю кто они. Одни - смотрят со стен кубинской решимостью, другие - по стойке смирно предстают в облике гусар, а некоторые... некоторые прикидываются невинными старушками. Их словно вырезают из нашей реальности, чтобы напомнить, что мы на этих улицах не одни. С нами всегда кто-то рядом - невидимый и любознательный. Волей-неволей начинаешь верить во все эти волшебные сказки из синто о духах и странствующих божествах.
Кто-то их замечает и тут же выбрасывает из головы - не место там всякой ирреальности. Другие делают из них бусы фотоотчетов. А некоторые говорят. В прямом смысле этого глагола. Не потому что сошли с ума, а потому что и иным нужно внимание. Немного магии простых людей, которые иногда забывают о своем холодильнике и новой серии по ящику забытья. Всегда говорю - чудеса где-то рядом с нами, только с другой стороны.
Un tout petit, triste et toujours rebelle

Comment ca va? Одна из тех теплых фраз монмартровой речи, которую я до сих пор храню за тяжелой портьерой минувших дней. Это как входной билет на пьяный корабль, проплывающий под пылающими ямами черно-синих небес у моста Мирабо. Полустертая татуировка странствующих легионеров, по которой они узнают друг друга в алжирских гаванях хмельной Сахары. Обожженная чистейшим спиртом гортань в луизианском бордели на брудершафт с барменом.
Нет, во мне нет французских корней, хотя в том, какая в тебе течет кровь, сейчас уже мало кто может быть уверенным. И я никогда не хотел увидеть Эйфелеву башню, avenue des Champs-Élysées и Собор Парижской Богоматери. Не зачитывался Стендалем, Гюго и Maurois. Но потомки галлов, франков и вестготов мне чем-то близки. Еще в школе, когда перед нами, готовящимися Системой Образования к суровому бытию малышами, стал выбор иностранных языков, я четко дал понять, что буду учить французский. Быть может, в знак протест против повального освоения народными массами "энглиш". И, думаю, не прогадал.
Учившие французский в наших школах и институтах (особенно не филологических) - это некая секта. Они почти сразу находят общий язык, хоть и русский, но... Нет-нет, да и скажут друг другу пару слов с западного склона в провинции Poitou-Charentes. В институте, где я надоедал преподавателям каверзными вопросами с первой парты, у меня были пары и французского языка. Стоит сразу упомянуть, что экзамен по этому предмету я сдавал с гитарой, исполняя песню на одно из стихотворений Charles Baudelaire. Хотя... считайте это выдумкой - все равно никто не поверит.
На пары французского тогда ходило от силы человек пять-шесть, а иногда и я один. Это позволяло просто общаться с преподавателем. А нужно сказать, что это был удивительный человек. Полтора часа бесед о Кастанеде, суфиях, Павиче и Кафке. Вот, кстати, с последним я познакомился благодаря этому преподавателю. Просто однажды она принесла подшивку журнала "Нева" 1988 года, где и был опубликован в советской печати этот роман.
И тогда же началось мое увлечение Камю, Сартром, идеями Бодрийяра, Ги Дебора, произведениями проклятых поэтов и даже сюрреализмом. Поэтому, когда речь заходит о Франции, то передо мной возникают темные аллеи Рембо, где можно челом коснуться неба, тихая каморка Целана, в которой у ног его Светлости Мечты накрапывает дождь, и библиотека дедушки Жан-Поля, в которой нет места сопереживанию бедам великих писателей. Французское - это что-то крохотное, грустное и всегда мятежное. Как чертик из табакерки, в которую подсыпали кокаин. И каждую зиму я возвращаюсь к нищему Пикассо, который пишет своих странствующих комедиантов, танцовщиц и акробатов. Вот то французское вино, что пленяет меня уже долгие годы, согревает в этой промозглой зиме приазовских степей.
Не знаю - бытие ли определяет сознание, сознание меняет бытие, но я рад, что в свое время выбрал "ударение на последнем слоге". И очень люблю "сов", поэтому на "Comment ca va?" частенько отвечаю "Ca va bien".
L'anxiété

Может ли быть что-то тревожней полусонной январской оттепели, выбежавшей второпях на улицу за сигаретами в наброшенном на пижаму пальто? Когда обгоревшие морозами черные ветки превращаются в тюремные прутья луж. Когда не отвечаешь на телефонные звонки, ведь не можешь найти слов даже для своей тишины. Когда даже это "когда" становится потерянной станцией, на которой не останавливается ни одна электричка "сейчас". Этой тревогой ты бессмысленно изучаешь дворы старых двухэтажек, пустынно вглядываясь в желтую штукатурку потрескавшихся стен. И прохожие не обладают реальностью. И каждое их замечание - глупая карандашная картинка на полях купленного с лотка философского словарика. До тех самых пор, пока не увидишь сумасшедших, выброшенных желудками квартир в эту тревогу.
Женщина в разноцветном халате с порванным китайским зонтиком в руках. Стоит на грязном сугробе и проклинает кого-то, кто существует только в ее голове. Переминается с ноги на ногу в резиновых пляжных тапочках и нервно покачивает зонтиком. Поет песенку из "Мэри Поппинс, до свидания!" о ветре перемен - нестройно, сбиваясь, чуть надтреснуто. А потом прыгает в лужу. Садится на корточки, прикрываясь от ветра зонтиком с золотистыми соловьями, а свободной рукой обхватывает себя за грудь. Начинает подвывать и прятать лицо в русых постриженных самой себе волосах. И кто-то смеется над ней из окна, отпуская полупьяные сальные шуточки. А она ложится на бок, скрючившись, и поёт, поёт, поёт....
Танцующий у церковной плазмы на остановке бездомный. Слушавший пару дней подряд своих демонов, а теперь пляшущий под разудалые народные песни из телевизора. Ему хорошо. Он улыбается - по-детски, с пустыми глазами, в которых кто-то уже кормит синиц с руки. Ему тепло. В его обмусоленной синей курточке, с хлебушком в руках. Хлоп - на одну ножку, хлоп - рукавом по боку, хлоп - головой в сторонку. И стоит он один, глядя в серое небо, и смеется. Пока кто-то из проходящих ребятишек не кинет в него куском льда, не станет кричать: "Дебил!", не попытается ударить палкой в спину. Но бездомный все равно будет плясать у церковной плазмы: хлоп - на одну ножку, хлоп - рукавом по боку, хлоп - головой в сторонку. Его дом теперь где-то высоко.
А еще один мужчина скажет: "Вы простите, но можно к Вам об...". А на недоброе: "Денег/сигарет/еды нет" несколько застенчиво продолжит: "Я просто хотел поздравить Вас с праздником. Мира! Вот что я хочу пожелать Вам. Мне не нужно денег и я не курю. Нет, не пью. Мира, понимаете, хочу Вам пожелать. Если много кому пожелаешь мира - он же наступит. Обязательно. И дети болеть не будут. И солнышко снова греть начнет. Мира Вам пожелать. Ведь никто искреннее не желает мира, понимаете? А Там, наверху, ведь слышат все. Они же сейчас поют, чтобы зажечь звезды. И им не хватает наших пожеланий. Так что - мира Вам, добрые люди, мира".
И нечто скрученное подступит к горлу в этот момент. Не слезы, а та самая сухая, каменная, острая тревога. Тревога полусонной январской оттепели, которая уже бежит обратно в свою "трёшку", досматривать новый сериал, пока никто ее не заметил. Ей будет неописуемо скучно следить за проходящими мимо, но она прижмет тревогу к груди и еще долго ее не отпустит.
Праздничная речь неудачника ко всему Человечеству

Что я, самый заурядный из всех смертных, могу сказать Человечеству? Вопрос... вопрос из разряда вечных и нетленных застольных проблем. Ведь я и сам себе толком ничего не могу пожелать светлого и доброго, а тут - весь род людской. В его противоречивости, непостоянстве, многообразии, со своими правдами и оправданиями. Просто страшно представить себе каждого жителей третьей от Солнца планеты, не говоря уже о том, чтобы произнести речь. Но я все же еще раз осмелюсь. По праву неудачника - того самого маленького самурая, который перед смертью уничтожил весь мир.
Егор Летов... да, тот самый носитель Вечной Весны в одиночной камере как-то сказал, что он "человек, свято и отчаянно верующий в чудо. В чудо неизбежной и несомненнейшей победы безногого солдата, ползущего на танки с голыми руками. В чудо победы богомола, угрожающе топорщащего крылышки навстречу надвигающемуся на него поезду. Раздирающее чудо, которое может и должен сотворить хоть единожды в жизни каждый отчаявшийся, каждый недобитый, каждый маленький".
Еще ни разу я не видел Великих Людей. Я видел телевизионные фантомы Величия, видел светлых и искренних людей, которых другие считают Великими, видел самовозвеличивание, на деле оказывавшимся попыткой защититься от внешнего мира. Но Великих... Меня окружают - маленькие люди, способные на самопожертвование и предательство, милосердие и жестокость, способные быть святыми и безнравственными. Один в один такие же, как я сам. Я вижу их эйфории и печали, зависть и сострадание, их убивающий свет и исцеляющую тьму.
А Новый год... это не совсем праздник. Это хохот времени над нами, неудачниками и прокаженными пространства. Над нашими попытками увековечить собственное Я в вещевом зодчестве, должностях, успехах, победах и комфорте. На самом же деле - мы просто уставшие дети, которым не хватает внимания и тишины. Не хватает искренней улыбки на ярмарке лжи, не хватает беспечной влюбленности, еще не знающей что такое измена, не хватает быть самими собой и не соответствовать тому, что подумают. Не хватает быть, а не казаться.
Если вы можете ждать - ждите. Если умеете плакать - плачьте. Если стараетесь простить - прощайте. Просто никогда не предавайте себя. Цените тех, кто любит вас, ждет и прощает. Счастье, как и ад - это другие. Каждое ваше поражение - это всегда победа. Как говорил все тот же Летов: "Это тот сокрушительный залп, когда уже кончились патроны. Пусть в глазах всего мира это разгромное поражение, зато для тебя и для твоего мира это полный и окончательный мат, триумф и торжество! Имеющий уши слышать услышит. Если ты посмел и не отрекся, не предал в глубине души сам то, во имя чего ты жертвуешь то никогда не проиграешь".
А Новый год - наступит и мы не вольны это изменить. Мы лишь способны на то, чтобы превратить его в Эпоху, либо растворить в серости Прошлого. От каждого из нас, маленького и всепобеждающего, зависит этот Год. От наших страхов и мужества, от нашей решимости пожертвовать чем-то или остаться при своем, быть Человеком или превратиться в Нелюдь. И снова я не буду ничего желать. Будет так, как каждый из нас сможет договориться с чужим и собственным Я, какую сумму получит за поцелуй и сможет ли вынести сталь пронзающих руки гвоздей.
С новой Эпохой, в которую я верю каждый год! С тем, чтобы это был год не какого-то восточного животного, а простой и искренней людской доброты!
Tribunal d'ombre

Если кто-то сейчас, в этот самый момент, возьмет меня за руку, с тревогой посмотрит в глаза и спросит: "Было ли это на самом деле или все выдумка?", то я... Наверное, я превращусь в замерзшую статую журавля из песка. Честное слово, засверкаю кристаллами воды на апрельском солнце. И каждому, кто пройдет мимо, напишу письмо с пометкой "Не нарушать предписанных тени границ".
... Я уснул в углу комнаты, где все спальные места уже давно были заняты. И мне остались лишь те 90° усталости, где я проспал часа три-четыре. Словно стал этим самым углом, в полной мере осознав бесконечность его лучей, стен, ног, мыслей. Затекли мышцы и я встал, чтобы найти в этой пост-висельной комнате 1 января воду, а заодно и размять спину.
Запахов алкоголя я уже не чувствовал, зато путался в сплетении ног и рук, образовавших на полу какой-то кельтский узор. Немного мутило, хотя за тот вечер я выпил, наверное, не больше пол-литра вермута и бокал коньяка. Вначале было весело, а потом... Потом снова пришло беспричинное беспокойство, как это часто бывает в квартирах, где остаешься ночевать. Стены начинают давить, а окружающие разговоры раздражать, и ты ждешь, когда все уснут. И знаешь, точно знаешь, что проснешься среди ночи - пойдешь на кухню, зажжешь свет и будешь сидеть там в одиночестве, читая Свою-Книгу-Из-Рюкзака. Вы разве не знали, что книги иногда читают во время бессонницы? Нет, они существуют не для того, чтобы покрасоваться с ними в общественном транспорте. В последнее время это был Ерофеев с его сумасшедшим домом.
...Зашел на кухню, включил свет и обомлел. За кухонным столом сидели тени и пили чай. Мне показалось, что они тоже вздрогнули от неожиданности. Судя по силуэтам, первым был молодой человек в сюртуке с каким-то цветком в петлице (как я мог понять - гвоздикой), вторым - сухопарый старичок в очках и с папкой, которую он сжимал под мышкой, а третьим - паренек в шортах на подтяжках и рубашке с закатанными рукавами. И кошка, которая сидела у старичка на коленках. Когда зажегся свет, то все четверо повернули голову в мою сторону. А я... я не смог произнести ни слова.
И вдруг я ощутил, что кто-то закрыл мне рот рукой. Холодной, невидимой и очень легкой. Я посмотрел на стену - это была моя собственная тень, которая, как мне показалось, подмигнула и толкнула меня в спину. Я прошел три метра, повернулся к сидевшим за столом лицом и застыл у подоконника. А те, словно не замечая меня, снова начали что-то обсуждать. Ко мне подошла тень кошки (или кошка-тень, если будет угодно), понюхала мою тень и вернулась обратно.
Я завороженно смотрел, как тени что-то обсуждают. Парнишка постоянно вскакивал и показывал пальцем на старичка, а тот, закрываясь руками и склонив голову на бок, обращался к человеку в сюртуке. Я смотрел на их спор не мигая и, кажется, начал понимать кто передо мной. Конторщик, дающий ссуды, Должник, просящий отсрочки, и Посыльный, выступающий с обвинениями. А кошка... кошка была Судьей. Они разбирали какое-то старое дело, в котором мне, по стечению обстоятельств, была отведена роль Присяжного - единственного, молчаливого и совершенно ничего не решающего.
Мне показалось, что минуты тянулись материками. Сходились, наползали друг на друга, изгибались и возвращались обратно. И тут кошка мяукнула. Да, я отчетливо слышал, как тень-кошка издала решительный звук и мальчишка схватился за голову. Человек в сюртуке склонил голову, а старичок выронил папку и... улыбнулся. Дело откладывалось еще на год. А я... я моргнул и снова оказался в углу, так и не решившись снова выйти на кухню. У меня в затёкших руках была надежда.
Âtre

Всего три вещи в этот декабрьский день заставляют забыть о том, кто ты на самом деле. Иней на скрипящих дверях, за которыми беспокоятся и заваривают земляничные разговоры уставшего дня. Птица, смотрящая с вызовом на все твои важные дела и не отбрасывающая тень в прошлое. Старик, медленно открывающий дверь "Добрым вечером" и негромко приветствующий свое одиночество полустертым ключом. И не нужно больше вселенского счастья, надрывного покоя, обиженной справедливости, снисходительных встреч, бескорыстных рукопожатий, проклинающих улыбок, наигранных обид. Я просто вернулся домой.
L'ingénuité

Что я ценю в людях? Вы, действительно хотите знать, что я в них больше всего ценю? Способность признавать свои ошибки. Слепую самоубийственную искренность, которую уже подвели к эшафоту, чтобы вздернуть вверх ногами. Умение переступить через тысячи тысяч логичных самооправданий, отвергнуть их доказательный комфорт, снять маску и посмотреть на свое же истинное лицо в зеркале совести.
Стеснительность? Да. Скромность? Да. Милосердие? Да. Все то, что в сей век практичных людей, добивающихся цели любыми доступными средствами, считается ingénuité - бесхитростной наивностью. Слышите? Даже в самом слове "наивность" чувствуется что-то простодушное и равно чуждое этому деловому сейчас. Но вы же спросили - что я ценю в людях? Подлинность маленького человека. До остановки сердца во время сати. Я ценю людей, способных сгореть вместе со своей правдой на ритуальном костре презрения окружающих, но остаться верными ей до последнего слова. Аутсайдеров счастья и покоя. Очаровательных неудачников, которые вопреки всем своим неустроенностям и поражениям, остаются людьми, а не гнилью.
Тех, кто не будет обеливать свое предательство, а просто признает его - без остатка и "разумных причин". Погибнет, вырежет из груди сердце, но признает свою вину. Пойдет против выгоды, против лучшего места под солнцем, против себя самого. Не станет прятаться за "обстоятельствами" и "существенными причинами". Для любой гнили всегда найдется объяснение. Но его никогда не найдется для искренности - добровольного жертвоприношения во имя ее же самой. Хотя нет... "Оправдатели", безусловно, найдут в такой жертве тайный умысел. Чтобы им стало чуть легче, чтобы отпустила фантомная боль совести, чтобы отыскать еще одно оправдание - мы все одинаковы в своем эгоизме.
Для себя всегда можно найти лазейки к отступлению. Поблажечки. Уступки. Снисхождение. И вот эти самые "шажочки" - это и есть тот самый рогатый дьявол, в которого так истово не верят бытовые атеисты. Принятие слабостей, как части самих себя. А от слабостей и еще один "шажок" - принятие своей низости, как "не самого худшего из зол", ведь бывает и ниже. Идти по головам, напролом, с надменно-отрешенным лицом, осуждая окружающих за то, куда ты еще не ступил, но уже близок. Поглаживать свои "шажочки", но презрительным полушёпотом бичевать пороки других. Признавать свою слабость, как основу основ, но брезгливо осмеивать чужую посредственность и называть ее - танцами отребья. Притворяться нищим, просить милостыню, но получив ее - требовать все больше и больше, а не выбив этого "большего" - винить во всех своих бедах дающего.
Я признаю право человека на тайну, на хранение своих мертвецов, на то, чтобы они остались вместе с ним до самого его последнего вздоха. Но не на оправдание. И я терпеть не могу тех, кто лезет в чужие шкафы, кто пытается опознать скелетов, кто наделяет себя правом эксгумировать кладбища других, кто смакует чужими мертвецами. Не переношу на дух опрощающих и упрощающих чувства других людей, их поступки и пороки. Всех тех, кто судит с позиции своей эмоциональной фригидности - по тому, как он сам бы поступил и прочувствовал. Мне претят "советчики", "доброжелатели" и "судьи".
Злость? Я могу принять злость. Искреннюю и лишенную надежды. Но она не будет иметь ничего общего с подлостью и лицемерием. С тем, чтобы пожертвовать другими ради себя. Это будет злость, основанная на отчаянии. Как последний шаг отступающего - сожжение всех мостов и строений, которые не должны достаться врагу. Да, я могу понять злость, но вряд ли сам приму ее. Я близок к баневской идее Стругацких - "скромность и только скромность, до самоунижения".
О, нет! В этой сказке нет идеального автора. Он хотел бы приложить максимум усилий, чтобы быть до конца искренним, чтобы никого не судить и быть скромным до самоуничижения. Автор просто говорит о том, что он ценит в людях и что не переносит на дух. Я, как тот главный персонаж "Гадких лебедей", ценен - потому что не понимаю: "Не понимать – это моя прерогатива. В этом мире все слишком уж хорошо понимают, что должно быть, что есть и что будет, и большая нехватка в людях, которые не понимают. Вы думаете, почему я представляю ценность? Только потому, что я не понимаю. Передо мной разворачивают перспективы – а я говорю: нет, непонятно. Меня оболванивают теориями, предельно простыми, – а я говорю: нет, ничего не понимаю… Вот поэтому я нужен…".
Я стараюсь быть искренним в силу своего непонимания. Говорить о том, что понял и признавать свои ошибки, когда был не прав. И быть там, где я еще нужен со своим морализаторством, нравственным самосожжением и печальной мордашкой в платочке. Но я продолжаю ценить людей за их способность признать свою боль, а потому быть живыми. Людей, разменявших свои амбиции на человечность - самый дрянной нынче товар, но столь дефицитный на рынке счастья.
Новый человек

Homo lassus - вот конечная цель общества потребляющего, поглощающего, проглатывающего. Человек уставший, изнывающий от скуки и ей же истощенный. Безвольная единица в замкнувшемся нуле итогов своей работы - с выгоревшей до отрешенности злостью и купированной способностью к сопротивлению. Воспитанное парадоксальностью происходящего вокруг подлежащее, уверовавшее в свою второстепенность, а потому неспособное что-либо существенно изменить в реальности абсурда. Переживающее, думающее, движущееся лишь по инерции - осознанию того, что оно живет. Вот он - идеальный материал для построения мира всеобщих свободы потребления, равенства глупости и братства равнодушия.
Выйди из комнаты!

Когда не хватает воздуха, когда исчерчены все углы и прямые, когда боль заменяет слова и чувства - отключи телефон. Преодолей земное. Растворись, исчезни, перережь связь с внешним миром и соверши ошибку - выйди из комнаты. В то неизведанное, чем ты никогда не был. Пусть позади остаются километры одиночества, delictum privatum в отношение себя, непрочитанные письма пощечин, и, конечно же, pater noster Tristis.
Лестница. Подъездная дверь. Два обнаженных акациевых лакея в снегу, пока еще знакомая дорога и дальше, дальше... Мимо котельных с разбитыми окнами, лепрозориев гаражей и самовлюбленных одноэтажных домишек. Безверно, обнаженно, с разжато кровоточащими кулаками - по снегу, босиком, к новым словам и комнатам, из которых давно уже съехали с катушек. В комнатах, где перегоревшее солнце искрит по туманным обоям.
И если ничего больше не осталось - переворачивай этот мир с ног на голову. Крути, крути, крути колесо безумной карусели, чтобы зеркала, окружающие тебя, слились и открыли проход во тьму, из которой появится рука и сожмет твое горло. Проникнет под кожу, сквозь мышцы и сдавит до хруста стеклянную душу. Легче? На это нужно мужество. Обескровленное мужество молчать. Превозмогая весь путь - от дверной ручки до пункта обмена посмертиями.
Но внешне ты будешь все такой же - маленький, растоптанный стенами и провалившимся потолком. С деланной улыбочкой из цветного картона, занятой, благодарящий за все пинки и даже торчащее из груди лезвие. Но уже вне доступа, вне ударов по лицу, вне едких плевков за свое существование. И слов не найдешь для такого же, подходящего к двери, пробующего ее на ощупь, прислушивающегося к треску над головой. Не найдешь чувств, чтобы показать - вот же, смотри, они ещё теплые, дышат, умирают, как твои. Не найдешь в нем себя, еще не вышедшего, не раскрывшего реберный панцирь лучам мертвенно-бледного солнца, не попробовавшего на вкус тьму.
А когда откроется дверь, новая дверь, последняя, исчезающая, то там уже не будет всех этих зовущих, звонких, сводящих с ума, шепчущих голосов. Только два слова, застывшие влагой одного вечернего поцелуя на твоих губах. Где-то на краю мира, охваченного войной, страхом и ненавистью. И этих двух слов и одного поцелуя хватит, чтобы уничтожить весь тот мир отключенного телефона, с его прогнившей комнаткой для свиданий со смертью.
La maisonnette

Ей было двадцать восемь. Именно так - буквами, а не цифрами. Двадцать восемь лет. Кто бы мог подумать! Десять плюс десять (парочка с которой она худо-бедно, да свыклась) и еще эти - бесконечные восемь, тянувшиеся словно альпинистская веревка во время прыжка с 30 метров вантового моста в прошлое. Она даже ощущала, что ей уже столько - двадцать восемь! Святые тунеядцы! Она смотрела в зеркало и видела их все - в морщинках у глаз, возле рта и на щеках. Такие знакомые, и одновременно чужие - подарки времени, нервов и бывших любовников. Они плясали под пудрой, как юродивые шуты на похоронах сельского старосты.
Но вот внутренне... с этой "внутренностью" всегда выходят какие-то несостыковки. Там, в глубине своих капризов, скуки и бытовой неустроенности, она оставалось все той же обиженной маленькой девчонкой. Той самой, которой не уделяли должного внимания в детстве, запрещали бегать по лужам, зачем-то спрашивали на праздниках: "А кто это у нас такой большой?", принудительно кормили и ставили в угол за сделанный из вырванной страницы "Бесов" журавлик-оригами. Вот там, внутри, у нее были обиды, несбывшиеся мечты и удивительные ноги в мокром песке, которые она рассматривала, сидя на городском пляже в июле.
Она искренне считала, что жизнь ей не удалась, поэтому придумала себе небольшой грустный домик в дождливый день. Знаете из тех, что стоят полузаброшенные на окраине какого-нибудь миссисипского городка. Да-да, непременно миссисипского. И непременно деревянный. В одной большой комнате этого дома стоят много книжных полок с потрепанными томиками уже умерших писателей, сказками и альбомами для рисования. На полу - циновка, матрас с двумя (нет, даже тремя) одеялами и чайный столик. На окне - глиняная ваза с засохшей сиренью и кленовыми листьями, а в одном из углов - повернутые к стенам картины. Ее картины.
"А гардероб?", - спросите вы. Ну вот с этим у нее дела обстояли каким-то сверхъестественным образом (хотя чего удивляться, ведь домик же был выдуманный, хоть и живой). Там был некий стенной шкаф, откуда она брала одежду-по-желанию. И желания она себе представляла очень даже скромные - потертое пальто, платья до колен, свитеры, ботинки, туфли, зонтики, шляпы.. а дальше было что-то, названия чего я, увы, никогда не запоминаю. Тут же недалеко находилась кухня (в этой же большой комнате). Ванная была отдельно. В ней не было слышно ни шума ветра, ни писем из реальности, ни стука в двери. Хотя в двери к ней мало кто мог бы постучать. Разве что персонажи ее любимых книг, сидевшие бы с ней и говорившие о погоде и приятных душе мелочах. Но приходили бы они только по ее тоске и одиночеству.
Этот небольшой грустный домик она всегда носила с собой, в кармане любимого пальто или рюкзаке цвета прыткой ящерицы. На все работы, которые меняла, как и квартиры - два-три раза в год. На все тусовки - единственное, что хоть немного заглушало ее привередливую скуку. Хотя людей она любила не больше ресторанчиков быстрого питания - это было скорее вынужденной (и даже в чем-то физиологической) мерой. Иногда ей хотелось слышать о чем говорят. Или даже не говорят, а просто произносят слова. А еще этот выдуманный домишко был с ней на всех прогулках по городу, возле ларьков с кофе и сигаретами, на остановках и в автобусах.
Что он был у нее в ее двадцать восемь лет - не касалось ровным счетом никого. Никто туда не мог зайти без спросу, да и любые попытки спросить пресекались ей за 200 метров до леса, где стоял этот дом. И в двадцать девять он будет на том же самом месте, разве что добавиться немного скрипящих ступенек, сквозняков в рассохшихся окнах и, быть может, появится какое-то милое, требовательное животное. Ведь должен же быть кто-то, кто время от времени станет засыпать на руках и требовательно будить днем.
А пока было утро. Все тоже зеркало. И кто-то там, кто собирался уходить на очередную работу.
Среди людей

Звенели струны, молчали. А потом лопнула басовая сталь под медной оплеткой. Порвалось оголено-ржавое железо Ля и Ми. Не от хорошей жизни обрели они окаянную свободу - от надрыва человеческой души.
Струны слышат фальшь. Слышат правду. Слышат. И рвутся, когда останавливается сердце Человека. Все шесть, одновременно, под чернотой кожаного чехла. Из боли рожденные и в ней же оставленные.
И из дерева выступает кровь. Теплая, как песни, что резонировали вместе с душой Человека. Сквозь краску, лак и неприкаянность. Течет по трещинам, неспособная свернуться и быть стертой. В окладе налипших слов и воспоминаний, в поминальном беге до последней черты.
И не стереть ее уже ни состраданием, ни почестями. Ни отпустить, ни прижать, ни проклясть нельзя. Кровь эта - кровь маленького человека, говорящего с небом на языке испытаний. Кровь эта - кровь нерожденного, непришедшего, непростившего. Кровь, как кровь. Тайна любого умершего Человека.
И не плачь по ушедшему. Не плачь по тому, кто говорил твоей душой. Не плачь по его струнам и дереву. Не плачь по его крови - она осталась в тебе, пришедшему на могилу Человека. Никто не хочет, чтобы по нему плакали. Никто.
Есть люди, которые дышали чужим горем, как своим. И продолжают дышать после смерти. Пришедшие однажды в сентябре и забытые февралем. Говорящие, как сорванное объявление о купле-продажи счастья. Молчащие, как рассветный небосвод перед началом новой войны. Есть еще Люди среди людей.
Безграмотный денщик Танатоса

Сын трактирного философа и его случайных разговоров на мосту со своим отражением. Выучившийся читать жизнь по учебникам парковых скамеек, закончивший среднюю школу нелюбви и порвавший свой диплом бакалавра отрешенности. Бродячий гуманист, плохо певший на похоронах, но три раза принимаемый в денщики Танатоса. А через неделю за безграмотность с треском вылетавший обратно в небытие - веселить и печалить прохожих. Вот кем был этот малый.
Именно он первым придумал спать стоя на уличных расстрелах. И он же запретил говорить птицам. Но каждый помнил его совершенно иным - улыбчивым, с плохо скрываемой добротой во взгляде. Он мог встретить вас у магазина бытовой алхимии и предложить откровение без сдачи. А мог открыть перед вами двери в горечь проходящего мимо облака. Его возводили в рыцари Ордена разбитых сердец и ровно двадцать семь раз сжигали на костре скуки и сомнений. Им торговали, напивались, вытирали руки после очередного чертвертования Эроса, снимали макияж и признавались в ненависти. Каждое его "Да!" было перевернуто и превращено в Ад. Но его все равно продолжали слушать
Казалось, что его нигде и никогда нет, но все о нем почему-то говорят. То как он превращает дома в дирижабли, то как раздает взрослым конфеты с детством. И никто никогда не сказал бы, что это Волшебник-без-волшебства, что он ни разу в жизни не видел чуда, считая все, что делает - самыми обычными вещами. Никогда не говорил "пожалуйста", не признавал значимости своих дел и отмахивался, говоря: "Ну что вы... вы мне ничего не должны". Винил себя в том, что сделал и не сделал. А потом исчезал. Иногда на время, иногда до рождения нового созвездия волос Самсона.
Вы спросите где он сейчас? Моет посуду после очередных гостей в своей обветшалой однокомнатной поднебесной? Покупает кому-то кофе, вслушиваясь в истошное торжество мести? Кидает морской галькой в окошко родильного отделения сестёр Сирин и Алконост? Стоит одной ногой на трамвайной рельсе над пропастью во сне? Курит, вслушиваясь в запах можжевеловых духов на морозе? Кто знает... я не видел его уже несколько часов.
L'avortement

Когда на блестящем подносе под соусом вины тебе изысканно предлагают угрызения совести - искренне и устало отпусти прошлое. Улыбчивым каинам, малодушным обывателям, убогим инвалидам души, служителям своего собственного комфорта. Всем тем, кто желал тебе добра, а дал лишь то, на что способен и как может. Тем, кто не смог быть с тобой ради своего тщедушного комфорта, кто продал тебя за выгодное предложение, кто искал удобный вариант, кто притворялся страдальцем и плакал ради ненавидимой и непризнаваемой жалости к себе. Мой маленький калека, прости всех тех, кто таков же как ты - трогательный, жалкий и бессильный в своей ненависти. Это были не слезы, а единственное, на что способны люди в горе - выкидыши счастья, любви и дружбы.
Survoler

В переполненном пустотой доме, где не слышно даже эха собственных шагов, исчезают стены. Здесь легко заблудиться, легко забыть расположение комнат, легко идти все дальше и дальше - по лабиринтам без преград. Но чем уверенней становишься в свободном передвижении, тем очевидней осознаешь свою неподвижность. В пустоте нет иного пути, кроме нее самой - смеющейся печалью, ненавидящей любовью, заботящейся безразличием. Дом, движение, уверенность, осознание и неподвижность - всё едино в лишь кажущейся реальности бесконечного Я. Изменить это невозможно, но можно научиться летать, не сходя с места.
Le miroir

Это был маленький и необычный городишко, один из тех, где жизнь протекает скучно и неприметно для всего остального мира. Такие города появляются из ниоткуда и исчезают в никуда. Несколько приземистых одноэтажных улиц с разгуливающими по ним историями о сумасшедших изобретателях, прапрабабушках-ворожеях и сойке, исполняющей желания. Здесь была и школа - крошечная, для десяти-пятнадцати учащихся, с тремя учителями-энциклопедистами, знавшими о мире куда больше столичных профессоров. А еще пекарня, где делали самый вкусный на моей памяти хлеб - черный, как солнечное затмение, и солоноватый, будто анекдоты сельского священника.
Здесь я провел чуть больше недели, пока чинили железную дорогу после очередного теракта. В последнее время взрывы перед пассажирскими составами не то, чтобы стали обыденностью, скорее - предсказуемым событием. Люди в таких incident, как правило, не гибли - просто приезжали туда, куда ехали, с опозданием в несколько дней или даже недель. Вначале это возмущало. Потом стало хмурым кивком перед надписью "Уважаемые пассажиры, в связи с чрезвычайным положением...". А теперь мы лишь пожимаем плечами и закуриваем очередную сигарету, выходя из остановившегося на сколько-то там суток поезда. А у маленьких околостанционных городишек прибавилось забот. Они стали чем-то вроде прибежища для купивших билет в даль и временно туда не попавших. В районе "особо неблагонадежных участков железной дороги" начали появляться даже своего рода "гостиничные комплексы". Но я никогда не любил весь этот service de l'hôtel.
Я не помню название этого городка. Помню, что чуть поодаль от него стоял разрушенный керамзитный завод, а еще дальше - карьер по добыче исходного материала. И кладбище - с покосившимися оградами, акациями, сиренью, домиком сторожа из торгового "батискафа" и désolation. Дороги не было. Вернее, она была, но где-то между попыткой дойти до светлого будущего и будущим, в котором не осталось светлых попыток. Я попал сюда в самом отвратительном расположении духа - тогда казалось, что жизнь зашла в тупик.
Поселился у немолодой женщины, торговавшей творогом и добрыми советами. Хотя последние она раздавала совершенно бесплатно, словно пряники озорным мальчишкам, которые под ее окнами стреляли из рогатки по чужим обидам. Полотенца у нее пахли настоящим хозяйственным мылом. Я очень люблю этот запах, запах честного труда и заботы о близких. Комнатка, куда меня поселили, была небольшой, но чистой и уютной. Такая, где по вечерам можно было часами слушать цикадные раги, незаметно превращавшиеся в забытые человечеством сумеречные мадригалы. А потом.... потом говорить со словами на бумаге. В углу стояли старые иконы на потрескавшейся полке, но я никогда не считал себя особо религиозным человеком, поэтому просто смотрел на них. Они же - молча изучали меня. Утром, к завтраку всегда был кувшинчик молока, накрытый вышитым полотенцем, и несколько ломтей пряного хлеба. И за все это я платил исключительно символическую цену, да несколько приятных слов благодарности хозяйке.
А еще у меня было большое зеркало, накрытое темной тканью. Отражение в нем было нечеткое, словно между мной и зазеркальем всегда находилось туманное Champ de Mars. Хозяйка говорила, что еще ее покойная свекровь закрывала это зеркало, а зачем - она не знает. Так уж повелось. И в ночь перед отъездом, когда нам сообщили, что железнодорожные пути восстановлены, я понял что же с ним не так.
Было уже глубоко за полночь и мне не спалось. Я ходил пить воду, сидел во дворе, смотрел на звезды, гладил случайно забредшего под окно кота, читал кого-то из австрийских писателей начала прошлого века. И во мне росла тревога. Как сухое дерево, которое в ночь полной луны начинает выпускать новые ветви - страшные, изломанные, обреченные погибнуть при свете дня.
Я вошел в комнату, запер за собой дверь и отчего-то направился к зеркалу. Сел и сдернул черную ткань. Зеркало было матово-угольным, чернее самого бездонного колодца. Я зажег свет и вгляделся в него. Может, подумал я, это какой-то оптический обман. Но нет. Его поверхность ничего не отражала. Obscurité totale. Я закрыл глаза и... Передо мной прошла почти вся моя жизнь. Все самые страшные события, которые я когда-либо пережил, вернулись. Смерти близких людей, разочарования в чувствах, идеях, идеалах, утраты смыслов и безверие. Все это казалось подобием ожерелья из черепов, в каждом из которых горело пламя - часть моей души. Выходишь из одного и попадаешь в другой. Путь был только один - в рядом стоящий череп, чтобы выбраться из этого зеркала.
Вот погибший от пневмонии любимый человек, которого ты не смог спасти. И ты переживаешь всю ту агонию, что он чувствовал перед смертью. Вот предательство друзей, посчитавших тебя не более чем разменной монеткой на пути к собственному счастью - любой ценой и имеющимися средствами. Вот твое счастье, оказавшееся червивым яблоком на распродаже тщеславия и гордыни, до сих пор сочащееся разлагающейся плотью. А тут - целый цех фальсификата улыбок, объятий, обещаний и признаний. Общежитие уродливых человеческих отношений и надежд. И ты идешь по этому черному залу, выгорая каждым отражением. Снова и снова, растеряв все силы и превратившись в инертное самодвижущееся "Moi". Раскаянное и неприякаянное.
Выдох. Рассвет. На зеркале черная ткань. А рядом на столе - кувшин с молоком и несколько ломтей пряного хлеба. То ли с тмином, то ли с отпущением скорбей. Я собрался, оставив последнюю плату за проживание на столе, и вышел в туман. Впереди уже раздавался сигнал поезда. Я уходил из этого маленького и необычного городишки, где в черном зеркале остались мои страхи и самые страшные события из памяти. Я, кажется, начинал жить заново и даже знал куда я поеду дальше. И, главное, куда я больше не вернусь.
"Скачок"

Тень от тополя. Тень от дорожного указателя. Там, где они пересекаются - икона мирового авангарда. В ушах протяжно скручивает реальность кто-то из эпохи амфетаминов и свободной любви. Druid Chase? The Velvet Underground? Them? Не важно - в ушах почти постоянно происходит что-то не от мира сего. Да и того тоже. Левая нога попадает в перекресток теней - прыжок в ледяную мезосферу, где сгорают августовские метеороиды.
Не хватает воздуха. Сознание не понимает произошедшего. И это не магия, не сбой в системе восприятия, не излишние чтения эзотерики. Просто иногда человек попадает в точку, где сходятся все случайности, а один разрез в реальности накладывается на другой. Давно сшитые Господом Богом края сущего разрываются и... ты висишь в околоземном пространстве, хотя по всем физическим законам должен падать. Это словно скачок напряжения в сети, от которого зависает и тут же перегружается компьютер. Для человека такой "скачок" в законах природы может длиться ровно две трети песни "Rats" Сида Баретта. В тот самый момент, когда ты просто возвращаешься домой с вечерней прогулки по городу с мигающими светофорами.
Но вокруг не светофоры, не последние такси, не собачий лай из-за ворот частных домов, а.... Северное сияние. Зеленовато змеящаяся неосязаемая дымка из чьей-то большой небесной трубки. Сложно сказать - что есть, а чего нет в этот момент. Нет мыслей о том, где бы взять денег или как купить новый телефон. Нет чувств воспоминаний о неразделенных предательствах или социальной несправедливости. Нет даже инстинкта самосохранения или саморазрушения. Есть необъяснимый восторг происходящим. До первой осознанной мысли в пустоте. А потом...
Шаг. И выходишь из тени, спотыкаясь о корень, вздыбивший асфальт под ногами. Оглядываешь, пробуешь ногой темный участок теней - ничего. Все то же и так же. Лай собак. Мигающие светофоры. Допевающий хулиганским голосом свою песенку Сид Баретт. Трясешь головой, словно ничего и не было. Идешь домой, лишь у самого подъезда замечая, что у тебя больше нет тени.
Jouant avec la lune

Щелчок. Монетка гулко кружится на сером сукне. Ни мгновения не стоит на месте, а уверено движется на запад, меняя образы и роли. Как завороженный смотрю на ее вальсок и улыбаюсь, улыбаюсь, улыбаюсь...
И вот она уже вовсе и не монета - на последнем обороте прыгнула и стала бледнокожей девушкой лет 27 с серыми волосами и выступающими ключицами. Она работает на почте. Каждую среду носит письма в дом № 8 по улице Лорки. Их никто не читает. Они лежат в почтовом ящике навалом, как чьи-то сброшенные в выгребную яму чувства. В очередную среду тонкие пальцы пытаются протиснуть еще одно письмо в прорезь почтового ящика, но в нем уже нет места. Девушка растерянно поправляет очки и переводит взгляд на письмо. Треск бумаги. "У меня не осталось сил писать тебе, мой умерший друг. Но больше у меня нет друзей. Больше никто меня не услышит, кроме тебя. Писать письма мертвому лучше, чем все держать в себе. Я снова убил человека...". Треск еще одного письма. Почтальонка сидит на крыльце обветшалого дома и плачет над ворохом исписанных салфеток и ткани. Ветер гоняет у ее ног обрывки порванных конвертов.
Щелчок.
Монетка потускнела и стала постаревшим писателем с выеденным сердцем. Он почти не спит. Все ходит и ходит по комнате, пытаясь сочинить еще что-то, о чем никто и никогда не писал. Заглядывает в углы, разговаривает с паутиной, проводит пальцами по запотевшим стеклам и бормочет что-то невнятное себе под нос. Сухими артритными пальцами лезет в свое сердце и выскребает оттуда остатки переживаний. Чтобы кто-то читал, чтобы кто-то помнил, чтобы стены больше не душили его. А когда среди почерневших стенок главного органа он находит немного грусти, отчаяния или безумия, то бежит за своей авторучкой. Заправляет ее извлеченной из сердца жижей и пишет что-то на обрывке простыни. После сминает ее и засовывает в щель за шкафом. "Пусть читают! Пусть знают! Подавитесь! Больше во мне нет ничего!", - яростно сипит старик, обхватив себя за плечи крыльями. Но потом встает и снова пытается найти то, о чем можно написать. Но все, о чем он может рассказать, находится в его сердце. Черным сгустком невнятной жижи.
Щелчок.
Монетка блестит сквозь запотевшее стекло. Мужчина с кривой улыбкой чужого лица. Сидит в вечернем ресторанчике быстрого питания в окружении шумной молодежи и смотрит на свою руку. На ней туман. Липкий, видимый только ему. В тумане кто-то кричит, стонет и умоляет. Ладонь сжимается. "34! - громко говорит девушка из-за барной стойки. - Бифштекс с кровью и апельсиновый сок". Мужчина поднимается, забирает свой заказ и возвращается на место. Вместо крови на куске мяса - туман. Вокруг хохочут, обсуждая какой-то забавный случай с "постиком в бабском паблике". "А потом, короче, я ей пишу: "Так, может, у тебя еще и мозги выросли?". Она, короче, отморозилась". Еще раз хохот. "Пишу", - говорит своему смутному отражению в стакане апельсинового сока мужчина с туманом на руках. Достает авторучку, пододвигает салфетницу и снова бросает взгляд на руку. Смотрит несколько мгновений и начинает что-то писать на салфетке.
Щелчок. Монетка гулко кружится. Резко замирает на сером сукне, превращаясь в то, чем и была все эти дни - неполной луной в октябрьский день.
Rébellion et Expulsion

(из ранее неопубликованного)
Бунт.
Не против себя. Это слишком избито для нас - тех, кем до сих пор живет XX век. Перешагнувших на сторону протеста против общества - тихого алкогольного самовредительства, интеллектуально-культурной ипсации и открытого уличного сопротивления. А когда все оказалось напрасным, направил остатки сил на самокопание, умерщвление и эксгумацию собственного Я. Экзистенцально-гуманистическое перегнивание с надеждой взрастить в себе что-то удивительное из запревших зерен эскапизма. Погружаться в свой чувственный мир, цепляться якорями за затонувшие корабли, а вместо них поднимать на объятую бурей поверхность мертвых китов.<...>
<...>Мы - мутанты. Мы бунтуем без шанса быть услышанным, понятым и достичь конечной цели. Нас не устраивает конформизм язвительных подростков iGeneration. Нам чужд их iSKYPEизм; их саркастическое comments-самолюбование и переливаниями из VK-надменности в FB-отстраненность; их двадцатилетняя усталость от жизни за скроллингом пикч в пабликах; непротивление потреблению созиданием. Нам не нравится суррогатный протест. Да, мы его и создали, дали среду обитания, но принять так и не смогли. Как и он нас, окрестив архаизмом до-смартфонной эпохи.
Изгнание.
Мы изгнаны из двух миров. La société de Consommation и его эрзац-антагонистами Wed-Rebel, полностью подчиненных и управляемых интересами Жизни-В-Кредит. Мы - недобудущее, свернутое, как вирус-проект, как нежизнеспособные новопрометеи. Ждущие "Полдень, XXII век", бродяги Дхармы, постдекаденты, геваристы, боконисты, андеграундные музыканты и все-все те, кто стал результатом известных и неизвестных субатомных взаимодействий. Жители сумерек - закатных и рассветных. Шатающиеся, неопределившиеся, сомневающиеся, формирующиеся и бунтующие.<...>
<...>Свалка себя самих - вот самое место для нас. И мы этим довольны. Быть на границе, жечь сигнальные костры в одиночестве и шататься из одного мира в другой, но так ни одному из них и не принадлежать. И знать, что когда умрут наши костры, всех станет знобить. И путь бесцельного бунта всегда ведет сюда - на границу. Автокатастроф, восьмых этажей, заряженных ружей, ванных с теплой водой и больничных палат. Изгнание не из самих себя. Изгнание без шанса быть услышанным, понятым и достичь конечной цели.
То, что нас объединяет

Так что же нас всех объединяет? Желание, чтобы кто-то страдал. Оно, как никакое иное человеческое чувство, уравнивает нас, превращая единицы в массы и делая каждого подобным всем. Именно этим желанием мы по обыкновению заменяем стремление к справедливости. Ведь маленький человек не способен на многое. Он не может прямо сейчас перекроить мир, не может справиться с внешними факторами и условиями, не может создать для всех среду, где все будет "правильно и ясно". Он может лишь одно: желать тем, кто принес ему трудности, боль и неприятности - страданий. Желать искренне и до глубины себя обиженного/искалеченного/оскорбленного другому такой же, а то и хуже, участи. Думаю, как раз об этом как-то и написал Карен Джангиров:
Хочется
большого
светлого
чистого
ослепительно доброго
Зла
Поэтому тихая ненависть - это результат акта всеобщего потребления страданий. Чтобы ненавидеть не нужно прилагать столько усилий, как для того, чтобы любить. Это даже проще, чем высказать свою ненависть открыто. Чем требовать, что-то менять и идти на разговор. Можно просто желать зла. Зла, принимаемого внутри себя за высшее воздаяние другому. И вот этим беззвучным и затаенным желанием того, чтобы кто-то страдал, мы и создаем наш мир.
Мы абсолютно праведно считаем, что нет невиновных. Что нет страдающих без вины, что мучения каждого из окружающих нас - это расплата за что-то, о чем нам просто не рассказали, не открыв перед нами свой личный ящик Пандоры. Но оно есть. А потому и сострадать человеку не стоит - он получает то, что заслужил. Отсюда и тотальное равнодушие к бедам других. Равнодушие, основанное на священной уверенности: страдаешь - значит грешен. И это не просто уже прописанная истина - это закон существования человеческого общества.
И когда маленький человек возвышается над другими, то эту истину он продолжает нести в себе, но уже на более высоком уровне общественных отношений. Если народ страдает - значит так и нужно. Значит, сами виноваты. Значит есть за что. И ничего не нужно доказывать. Аксиома же. А раз у меня есть возможность воздать, то есть и право. Итог? Мир, где страдание - это главный механизм свершения "справедливости".
А если это тихое желание, чтобы "обидчик" страдал, так и не дождется своего исполнения? Ведь кем-то причиненное зло, оставившее в вас след, это уже не чье-то зло, а ваше собственное, с которым вы проживете всю жизнь. Болезнь, превращающая внутренний мир в зловонную гниль воспоминаний и "снова-и-снова-переживаний" этого самого причинения зла. Тот самый ад, который каждый из нас устраивает сам в себе. Месть -> воспоминание -> повторение зла -> месть. Круг замыкается и постоянно движется внутри, сколько лет бы не прошло. А сколько таких колес вращается внутри каждого из нас?
Старая дзэнская история о двух монахах, встретивших девушку у грязного ручья. Она боялась его перейти. И один из них подхватил ее на руки и перенес через бурный поток. Всю дорогу его спутник хмурился, а когда они подходили к монастырю, осуждающе промолвил:
– Мы не должны увлекаться мирскими страстями. Ты поступил скверно, брат.
– Ты о чем?
– О той девушке.
– Да я давно забыл о ней. А ты все еще несешь.
Из жертвы мы становимся обвинителем, палачом и, как следствие, преступником, замыкая круг взаимной ненависти. Зла, переносимого не только на "обидчика", но и всех подобных, ведь люди одинаковы, не правда ли?
Что же тогда есть сострадание? Бунт! Открытый мятеж против общепринятой модели мышления. И слова князя Мышкина о том, что "сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества" звучат не просто "дичью", а откровенной антиобщественной ересью. Взаимопомощь? Саботаж! Прощение? Невменяемость и безумие! Ведь это противоречит личным интересам. Это идет вразрез своему собственному "Я", оскверненному и неотмщённому. Хотя бы прощение на уровне "переноса через бурный поток" - не желать другому страдать.
Se soigner

После вечерних метаморфоз во сне я решил прогуляться к морю. Холодному, как руки двадцатилетней студентки в ноябре, шумному, словно встреченный в ледниковый период взглядов давний друг, и нервному, будто случайно выпавшая из семейного микроавтобуса по дороге на юг псинка. Я не очень люблю море (ровно настолько же, насколько и случайные беседы в электричках). Наши встречи с ним почти всегда заканчивались скандалами - с непременным выбрасыванием из прибрежных окон мёртвой рыбы, либо молчаливыми обидами за попусту потраченное вместе время. Море меня презирало, а я кидал в него камушки, с язвительностью отмечая его постоянство и недалекость в общении.
Старый рыбацкий посёлок. Перевёрнутые вверх дном лодки с облезшими смоляными досками - вздутые бока полумертвой эпохи хемингуэевской романтики. Ночь. Комары. Прибрежные плевки волн о разрушенные камни морской дамбы. Заглушенные ритмы сельских дискотек... откуда-то с луны. Шаги.
- Молодой человек, - сухой солончаковый голос слева. - Нет-нет, вы курите. Можно присесть? Тут ведь не так и уж много мест, где старый рыбак может отдохнуть.
В принципе, меня никогда не радовали вечерние беседы с незнакомцами. Общий, даже уже мёртвый, язык я могу найти с любым собеседником. Политика, бухгалтерский учёт, военное дело? Да не вопрос. Сельское хозяйство, рыбная ловля, история династии Тан? Пожалуйста. Токарное ремесло, выпечка слоенных пирожных, воспитание детей? Вуаля. Все, о чем может быть интересно говорящему со мной. Выслушаю, осторожно добавлю пару-тройку деталей, некогда впитанных моим эрудированным чердачком для таких случаев (непременно с профессиональными терминами), соглашусь с выводами. Или нет. Вопрос в другом - такой разговор мне зачастую будет неинтересен.
Вот и сейчас - я сидел в ожидании чего-то такого, что у человека накипело за летопись его рабочих будней. Либо вежливого разговора о том, как все плохо и кто в этом виноват. Я смотрел на присаживающегося рядом старика и почти не видел его. Ещё один пассажир этого берега, возможно, даже безбилетный. А он сел, достал электронную сигарету и задымил словами.
- Если слова лишние, то могу не мешать.
- Да нет, все равно делать-то нечего. Я не люблю море, оно - меня. Ещё один напрасно потраченный вечер из жизни городского бездельника, - самоиронично улыбнулся я рыбаку.
- А чего сюда приехал?
- Отдых, побег... Ну, или перемена мест в голове.
- И как?
- Нууу, все ожидаемо - бесполезно.
- (тихий смех, словно галька пробирается сквозь мокрый песок к лунному свету) Странно говоришь. Правильно, но слишком странно. Примерно так же, как рыба бьётся в сетях. Вроде и правильно - больше-то ей ничего не остаётся, но странно, что пытаешься с этим что-то сделать. Хотя у малой рыбёшки шансов уйти обратно больше, а та, что покрупней - все одно останется.
Я даже как-то удивленно глянул на курильщика электронной сигареты. А где же бытовые жалобы и обсуждение социальных штормов?
- Но то, что приехал к морю - это не зря. Оно лечит, даже, если у тебя с ним через слово чешутся кулаки. Почти всю жизнь здесь прожил, дети разъехались, жёны разбежались. А я все ещё здесь... вот, как для тебя, степь. Пахнет от тебя чем-то бездорожным, терриконно-полынным. Как сидишь, как смотришь, как слова кидаешь - такое чувство, что порода по пыльному склону сползает к шахтной речушке. А я возле моря вот... Привязан к нему что ли. Береговой линией, криками чаек, маками вот этими. И я тебе точно могу сказать - море лечит. Сушит края ран, щиплет до одурения, но в конечном итоге - лечит.
Старик улыбнулся и наклонил голову набок. Прищурился. Он ничего больше не говорил. Да и мне нечего было добавить. Что мы с ним делали там, глядя на ночной горизонт - не пойму до сих пор. Просто сидели у кабинета к лечащей Вечности, которая принимала только по средам и в полночь. Каждый со своими ранами, жалобами, сомнениями и беспокойствами. У кого-то с выдержкой в десятилетия, у кого-то - в месяцы. Докурили и разошлись. Молча.
Именно тогда и стало легче.
À long retour

Из четырех житейских сюжетов обреченности мне ближе всего было и остается - долгое возвращение. Я не знаю с чем и когда расстался, но ежедневно осознаю свою жизнь, как бесконечную и лишенную смысла реверсию.
Я мог бы назвать это поисками, если бы знал их конечную цель.
Я мог бы назвать это штурмом и обороной самого себя, своей изначальности, подлинности и уникальности личности, если бы не осознавал ее подделкой, синтезом высказанных кем-то мыслей и ординарнейшим из вин.
Я мог бы назвать это самоубийством Бога, если бы осознавал его в себе и не вел длительного с ним спора о его же существовании.
Иногда я ужасаюсь цикличности всего происходящего вокруг, хотя именно ее возвел в символ жизни и основной принцип своего же существования. Быть может, я ищу изначальную (пусть и гипотетическую) точку конца-начала пути. Именно потому и возвращаюсь, чтобы снова уйти. Прохожу закольцованную спираль - виток за витком, год за годом, станцию за станцией и... проскакиваю ту самую точку, или момент, или конечную. Пытаюсь понять (искренне, до схождения с одного ума на другой и саморасстрела) где черная дыра превращается в новую вселенную белой дыры, которой не существует, но в которой мы и живем. Сингулярность слова, мысли, самого себя и того, что не может быть, но оно и является нашей реальностью.
Иду по улице, снимая с чужим лиц эмоции. Вижу улыбки - улыбаюсь, вижу гнев - злюсь, вижу потерянность - исчезаю, вижу самодовольство - снова улыбаюсь. Даже в этом тексте я не знаю, как избавиться от этого "я". Как вытрясти его из того, чем оно не является, а после - выстирать, вывесить на обозрение голубям и на кончике пальцев увидеть самую мыльную звезду. Как возвратиться туда, где никогда не был и избавиться от слоев чужого, не твоего? Как преодолеть притяжение и остаться двумя ногами не Земле?
Я не знаю ответ, но снова выхожу в свое долгое возвращение.
Решение

Друг напротив друга по разные стороны шестиугольника стояли два человека. Один в белой, а другой в черной маске. В левой руке у каждого из них был кинжал. Стоявшие судорожно пытались сообразить где они и что здесь делают. Их взгляды блуждали друг по другу.
Человек-В-Белой-Маске попытался что-то сказать, но... Не смог произнести ни единого слова. Тогда Человек-В-Черной-Маске решил ему ответить, но у него тоже ничего не вышло. Попытавшись сдвинуться с места, каждый из них понял, что этого они тоже не могут сделать.
В тишине на каменные плиты упала красная капля. Потом еще одна и еще. Капли превратились в настоящий проливной дождь, заполняя собой дно шестиугольника.
Люди-В-Масках почувствовали, что могут двигаться. Они стали бегать по комнате в поисках выхода. Увы, его не было. "Вода" пребывала.
Сверху опустилась веревка. Каждый понял – шанс выбраться из шестиугольника есть только у одного. По колено в красной жидкости они бросились с кинжалами друг на друга. Черное против Белого, Белое против Черного.
Ожесточенно размахивая отточенной сталью, каждый из них пытался добраться до сердца другого. Человек-В-Белой-Маске, извернувшись, наконец-то всадил острие в сердце соперника, бросив того умирать. Ухватившись за веревку, победитель начал ползти вверх.
С каждым сантиметром его маска становилась все чернее и чернее. Он дополз до отверстия в потолке, вылез наверх огляделся и... увидел у себя за спиной Человека-В-Белой-Маске с кинжалом в руке. Опустил взгляд на свою левую руку - там тоже была полоска заточенной стали. Откуда-то снизу послышался звук захлопывающейся двери.
Nevermore

Нет ничего опасней, чем смотреть на облака. Мечтать, отвлекаться от реальности, оберегать в себе ребенка, рассеивать внимание на бесполезную красоту. Глядя ввысь, не заработаешь себе премию, не взойдешь на новую ступень карьерного зиккурата, не познакомишься с симпатичной девицей на ночь. Нет ничего более бесполезного для заваленного работой человека, чем смотреть на облака. Это неприбыльно. И даже вредно. Пагубно для решения важных дел, которые с поднятой бровью уже покашливают у вас за правым плечом. "Облака доведут тебя до нищенского существования, - говорил мне один очень представительный человек, потягивая приличный кофе из маленькой чашечки. - Ты никогда не станешь нормальным мужчиной, если будешь смотреть на весь этот вздор. Облака нужны только для того, чтобы закрывать солнце во время торжественных мероприятий, и в сельскохозяйственных целях. Все остальное - галиматья, которую придумали нищие бездельники, чтобы убить время".
В детстве
я любил фрегаты
больше телеантенн.
Ведь мачты первых
отражались в слезах
небесных китов,
а мачты вторых –
подслушивали
чужие разговоры.
Я не люблю слушать людей. Кто кого подставил, кто кому сделал какую пакость, кто лучше, а кто хуже. После этих бесед хочется принять душ, избавиться от липкого запаха зависти, обид и неприязни. Взять кусок чайного мыла и, плюнув на всю эту суете, отправиться туда - высоко-высоко, где принимают солнечные ванны жители облачных поселений. Прийти к ним и сказать: "Здравствуйте, а это ваших динозавров я видел вчера среди кленовых листьев и сломанного веретена?". Они, конечно, улыбнуться, глядя на кусок моего мыла, и скажут: "А вы никак к нам с земли пожаловали, да? Ну вот вам бокальчик вина из одуванчиков и сладкая вата. А динозавры - да наши, но сегодня это уже фламинго".
И прожить там можно не месяц, не год и даже не самый короткий индикт. Жить там можно целый кайнозой, так и не заметив, как выбрался из кокона своего антропоцена и прыгнул в космическую эру. Ходить по хвосту вытянувшегося кота, перепрыгивать с одного узелка Веревок Мауи на другой, ловить летучих голландцев за их порванные паруса, здороваться с Антуаном де Сент-Экзюпери, покоряющим очередной горный пик. И ни сном, ни духом не ведать о годовом отчете, ставках Лондонского межбанкового рынка и программах развития и реконструкции-модернизации. Не хотеть выпить пива, потому что был тяжелый день. Не смотреть в телевизор, чтобы тебе разжевали озабоченность сложной геополитической ситуацией.
Можно стать прокаженным облаков, не понимая того, что вокруг тебя происходит и насколько все это серьезно. Даже можно забыть о дополнительном заработке и ипотеке. Нет, я не святотатствую, что вы! Да, знаю - это страшно, поэтому и говорю вам: "Nevermore. Никогда не смотрите на облака. Это слишком опасно!".
Случайно заглянув
под простынь сновидений,
уже нельзя вернуться
в чужую комнату
поломанных игрушек
и плачущих теней.
В ожидании чуда

Третий вечер над городом хохочущим смайлом сквозь потертые облака нависает кокетливая луна. Пузатая, румяная, сырная... ну, прям - харцызский чебурек, как шутят между собой мои друзья. Растущее полулуние - завораживающее до искрящихся звездочек в глазах. До помутнения всех пяти чувств и дрожи в полотне привычной реальности. Глядя на эту плутовку, так хочется верить в чудо. Дико симпатичных привидений, заблудившихся среди пятиэтажек леших и ученых котов, выходящих побеседовать с людскими тенями в полночь. Хоть какое-то, даже самое малюсенькое чудо!
Сегодня должен быть звездопад. Так сказали "газеты". Мол над нами пройдет метеоритный поток Персеиды - до 200 метеоров в час! "А, знаете, что мы делаем? - обратились ко мне, идущему домой, где-то около полдесятого вечера мальчишки во дворе. - Мы ждем падающие звезды! Они будут - точно, точно!". Я улыбнулся. Дети всегда верят в чудеса больше взрослых. Поэтому и видят их чаще, а мы... мы просто проходим мимо чудес. Погруженные в свои хлопоты, заботы, нужды и беды.
Сел на скамейку, закурил и поднял голову вверх. Большая медведица, Полярная звезда и много-много других небесных зрачков, составляющих неизвестные мне созвездия. Затянулся никотиновым дымом еще раз и в глубине своей обывательской души тоже стал ждать хоть одну "падающую звезду". Нет, не для того, чтобы загадать желание, а просто увидеть что-то... неземное.
Слева зашуршало. Присмотрелся - ёж! Серый, деловитый и целеустремленно перебегающий дорогу в сторону придомового палисадника. Колючая четырехлапая звезда, фыркающая среди астр и каких-то кустарников. Куда бежит - непонятно, но посреди города! Что-то ищет. Быть может, кусочки метеоров? Не знаю.
Мне почему-то вспомнились звезды августа 2014 года. Холодные и безмолвные - ровным счетом такие же точно, как и сегодня, но не сулящие чуда. Просто спасающие сознание тем, что прибиты к земному небосводу уже не один миллион лет. Мысль о том, что они почти вечны - спасала.
И тут что-то грохнуло. Упал метеор? Нет, выстрелил танк или, скорее всего, БМП. "Вот вам и чудо!", - подумал я. Поднялся домой, вышел на балкон и стал слушать. У кого-то играла "Ламбада", кто-то скандалил за стеной, а в небе - все неизменно, лишь Млечный путь стал "ярче". Я вспомнил отрывок из старого советского фильма о Безымянной звезде: "Бывают вечера, когда небо мне кажется пустыней, звезды — холодными мрачными покойниками, трупами в этом безжизненном бессмысленном мироздании, только мы одни мечемся в одиночестве на нашей маленькой захудалой провинциальной планете, как в глухом городишке, в захолустье, где нет воды, темно и даже не останавливаются скорые поезда <...> Но бывают вечера, когда всё небо полно жизни, когда если хорошенько прислушаться, слышно, как на каждой планете шумят леса и океаны… Фантастические океаны! Бывают вечера, когда все небо полно таинственных знамений...".
В полутьме прифронтового города, где уже несколько минут, как наступил комендантский час.... Где на окраинах слышны выстрелы минометов и бронетехники... Где падающие звезды - это стряхиваемый пепел соседа сверху... Я стоял и смотрел в ночное небо. Сжал руки о перила и чего-то ждал. Боль пронзила левую ладонь. Зашел домой, посмотрел на нее. Кажется, лопнул сосуд. Взял лед из холодильника, приложил к ладони и почувствовал жжение. Подержал минут пять. А потом снова посмотрел на больное место. Конечно же там оказался синяк - вытянутый, без четких краев, словно падающая звезда.
Le traître

Чувствуете этот приторный, слегка пьянящий и тягучий вкус изысканных помоев человеческой души? О чем это я? Конечно же, о предательстве. Упоительном, безграничном и ни с чем несравнимом превращении в слипшуюся во влажных ладонях горстку серебряных монет. Разве вы не пробовали этого восхитительного и чудодейственного эликсира? Омолаживающего, протрезвляющего и рождающего заново. Две-три капли и вы словно вышедшая из пены кислотной и регенирированная сталелитейным заводом Афродита. Конквистадор в панцире железном. И мир вокруг сразу оказывается глубоким, ярким и резким, словно на него смотришь соляными глазами, выросшими на месте тех, что пару дней назад вырвали раскаленными щипцами для завивки милейших ресниц.
Если вас предают, то ни в коем случае не отказывайтесь от этого благороднейшего из вин. Пейте, до самого дна, ощущая терновый букет в каждой обжигающей капле молчания. Почувствуйте себя оцененным, сторгованным, проданным и умершим. Поднимите с благодарностью протянутый вам бокал и осушите его до самого дна. Видите заплаченную за вас цену? А теперь - дышите. Ощутив, как в груди снова забилось сердце - смейтесь. Зло, бездейственно, искренне прощая каждого, кто оказался настолько слаб, что сам приготовил для вашей души бессмертие. Смейтесь не от радости и облегчения. Смейтесь той пуле, которая останавливает секунды во время расстрела, чтобы вы прожили внутри себя еще две-три жизни. Смерть подождет - она терпелива даже к самым опустошенным и потерянным существам.
Изменить мир, прыгнуть выше своей головы, выбраться из жижи быта и снедающих сердце страстей может только тот, кому уже нечего терять. Расстрелянный, выпотрошенный до последней сушеной бабочки из груди, подвешенный вниз головой - веселящийся мертвец, лично знакомый со всеми порожденными людским разумом чудовищами. Человек, который не может спасти себя, но способен пожертвовать собой. Знающий, что никому не нужен, но верящий в каждого из равнодушных. Готовый принять предательство, как нечто само собой разумеющееся, заплатить предложенную за него цену и все равно верить в Человека в каждом человеке. Предательство - не смерть, предательство - крик новорожденного, в легкие к которому вошел обжигающий воздух. Если вы готовы родиться - примите предательство от тех, кто вам его предлагает. Научитесь дышать в этой пустоте. Иначе... иначе вы и сами предадите.
Lost

На дорогах всегда лежат десятки, а то и сотни гаек. Неужели не замечали? Ну, давайте, вспоминайте же: остановка, автобуса нет, подходишь к бордюру, одной ногой становишься на дорогу и выглядываешь - не едет ли чего? Не едет. А потом смотришь вниз, а там - она самая.... ГОСТ 5915-70. С резьбой от 2,5 до 20 мм. Шесть граней, как шесть дней Творения Мира, гекзаметрическая поэма Устойчивости, даруемая дорогой в знак признательности за внимание. Бывает, я поднимаю эти магические шестигранники и долго рассматриваю письмена на их искаженных спинах.
Там можно прочитать пророчества на день грядущий. Можно увидеть судьбы целых народов. Даже изредка попадаются карты с сокровищами, о которых забываешь, как только садишься в автобус. Смотришь на полустертые романсы в глазах пенсионеров и недорисованные хайтек-натюрморты на пальцах студентов... Смотришь, читая по их морщинам и жестам три возраста будущего, а потом разжимаешь ладонь. Оттуда на тебя безымянной пустотой ослепшего прошлого смотрит пропавший без вести кусочек мира. Пропавший без вести в твоей ладони.
Куриный роботобог, говорящий с тобой на непонятном языке зазубренных бороздок резьбы. Почему до сих пор никто не придумал гаечно-патефонную иглу, чтобы она читала все то, что хотят рассказать людям Гайки-Лежащие-На-Дороге? Все, что они видели - от завода и до падения в пыль. Как их затягивали, а они шли против всего Механизма, в конце концов находя Свободу. И вот теперь некоторые из них лежат в кармане моего рюкзака и тихо выстукивают что-то креольское, не боясь быть потерянными. Ведь теперь для них открыт весь мир. Без имени, без паспорта и без наших о них мыслей.
Просто гайки, шестью своими сторонами мира лежащие в кармане проходящего мимо вас человека.
Иногда

Мне постоянно говорили - не смотри в окно автобуса, когда едешь на работу. Мне говорили - не останавливай время, если нужно спешить жить. Мне говорили - не обращай внимания на людей, ведущих себя странно. Мне говорили много, настойчиво и со знанием дела. А я всегда был слишком никчемным слушателем рекомендаций, делая только то, что чувствовал правильным в данный момент. Никогда не испытывал жалости по поводу неудач и промахов из-за того, что кого-то не послушал. Я до сих пор уверен, что, вняв речам кого-то опытного и здравомыслящего, пропустил бы себя нынешнего, не особо чтимого, но насквозь привычного, как осенние ботинки в прихожей со сгоревшей лампочкой.
Иногда я смотрю на инвалидов. Не потому, что интересно и не от того, что сочувствую, и, уж тем более, не с неприязнью. Просто они - другие. Люди, стремящиеся делать то же, что и обычные люди, но по-иному. Как курят, сжимая сигарету, перемолото скрюченной рукой. Как идут по коридору больницы с тростью, не видя что и кто перед ними. Как неуклюже заходят в автобус, внося свой церебральный паралич в толчею, и извиняются за неудобства. Я наблюдаю за тем, как на них смотрят "нормальные люди" - отстранено, брезгливо, испытующе. "Нормальные" чувствуют себя рядом с ними чужаками, слишком ровно дышащими и правильно функционирующими. И "нормальных" это раздражает. Я чувствую это под их масками безразличия, сострадания и гнева. Инвалиды? Растерянно улыбаются. И я понимаю как это - быть Человеком.
Иногда я смотрю на детство во взрослых. Самое искреннее и неподдельное, которое нельзя снять в авторском кино и рассказать о нем детям. Два милиционера сидят во дворе на металлических качелях, движимых солидольными подшипниками (принесенными папами в далекие кризисные годы с какого-то машиностроительного завода). Сидят, поджав под себя ноги, и слегка покачиваются. Один держит автомат, а второй заполняет протокол. На их лицах незаметно играют забытые в третьем классе улыбки прогульщиков школы. Пока никто не видит. Спрятались в глубине тенистого двора.
Иногда я смотрю на желающих нравиться мужчинам девушек. А потом, на долю секунды, устающих от своей игры в привлекательность и вдыхающих небо. Хрупкая блондинка с короткой стрижкой, парой татуировок на спине и в обтягивающем летнем платьице. Прыгает с последней ступеньки автобуса к лужам остановки. Резко разворачивается, поднимает голову вверх, смотрит на вышедшее из-за туч солнце, подставляет лицо каплям дождя, закрывает глаза и... улыбается. Так естественно и непринужденно, что видна только ее душа. Без "Космополитенов", эпиляций и хорошего парикмахера. Вот та самая, что семь-десять лет назад лазила на деревья за котами, дралась с пацанами на год-два старше и просила бабушку еще раз рассказать о том, как та ходила на танцы в молодости. Дождь, улыбка, душа и...
Я не знаю что такое - нормальный мир. Иногда я смотрю туда, куда смотреть нельзя. Ошибаюсь, делаю неверные шаги. Ищу запасной выход из этой бесконечной пьесы "правильности" того, что мне говорят. И если перестать слышать, завернуть за угол, остановиться и поднять голову.... Вот в этот самый миг происходит самое необыкновенное, удивительное и навсегда меняющее тебя "иногда".
Placebo

Болезни лечат от суеты. Немилосердно раскатывают все мелкие неровности быта в простую и понятную дорогу, открывая горизонт - самый понятный указатель из всех созданных знаков мира для Человека. Война, любовь, одиночество, талант - вот те болезни, которым ты не по своей воле протягиваешь руку и они ведут тебя к пониманию главных вещей в жизни. Иссушают, испытывают, съедают изнутри, заставляют отвернуться от тебя друзей, воспитывают врагов и... делают сильней. Не убивают, нет - иммунизируют до опустошенности, до отчаяния, до потери всего и вся, что считал ранее важным и очевидно значимым. И любое лекарство, так бережно подсовываемое окружающими, не более чем плацебо, выпущенное на фабрике руками таких же больных, как и ты Людей.
Возвращение

(письмо неизвестному другу)
Мы так и не вышли полубогами из лабиринтов собственного легкомыслия, полуистлевшей свободы и страха того, что еще предстоит. Помнишь, как не зная друг друга, мы одновременно прислонялись к облепленным паутиной стенам, принимая ее свечение за дневной свет? Как плыли по горло в недоверии и ревности к своему сердцу, мечтая задохнуться безмолвием эха, но все равно продолжали движение. Как говорили с тенями из прошлого, принимая их за живых людей - извинялись, переубеждали, проклинали, просили вернуться, ненавидели и убегали.
Где же наш дом? Каких богов нам пришлось убить там, в полумраке игорного приюта скуки и невежества, чтобы окончательно утратить свой Ершалаим? Мы хотели обрести Дом-В-Дороге, но земля отвергла нас. Мы больше не имеем права на могилы, покой и возвращение. Нет-нет, не отрицай это. Не питай себя пустыми надеждами. Каждая пустота, которую поглощаешь, съедает тебя самого, заполняя тобой же себя изнутри. Мы сами хотели быть богами, говоришь ты? Хотели. Мы многое что хотели, принося на алтарь собственных желаний весь мир - по отрезанным кусочкам своей человечности. Боги ли мы теперь? Полубоги? Мы теперь даже не люди.
Отверженные духа
изгои плоти
неМы
Собственные полумифы, искрометно играющие образами и с патетичной пылкостью рисующие на картоне слова "Бог", "Тьма", "Тишина", "Печаль", "Любовь", "Жизнь", "Душа". Но эти наивные рисунки не оживить, не сделать их настоящими, не заставить разговаривать и даже не убить. Это всего лишь грим на лице, которого не существует. Математическая плоскость гордыни, лицемерного желания Быть, что-то из себя представлять и доказать значимость того, что у нас есть собственное Я. Брачный танец смертного, привлекающий Жизнь после пьянствования осознанностью. Похмельный рев.
Сознавали ли мы себя когда-либо? Мы просто искали дом. Ничего более. Искали так, что утратили даже воспоминания о нем, заменив их перфомансами исповедальных кривляний и инсталляциями несуществующей боли. Еще, еще и еще - в новое тупиковое ответвление лабиринта, выдаваемое за передышку. Перед новой игрой. Перекресток. Дорожка. Колыбелька. Пальцы плетут узоры из ниточек. И чем сложнее фигуры, тем дальше мы от дома. Пора прекращать эти игры с пустотой и сворачивать нити в клубок.
Домой!
Уроборос

Циферблат сошел с ума. Вернее, дал задний ход (кто-то внутри потом даже скажет, что черный), сойдя с хода привычного. Время остановилось, зависло, сгустилось и стало желейным, как семь с половиной километров по знойному июльскому шоссе пешком. Почему? Из-за необоснованного чувства страха перед следующей жизнью. Я давно уже понял, что у жизни нет этапов. Есть переходы в другие субъективные реальности существования. Другие жизни одного Человека - ощущаемые иначе, складывающиеся из иных "кирпичей" окружающей среды. И замечаешь это только тогда, когда "жизнь" прожита. Сожжена до последней квитанции об оплате за тепло, печаль и откровения. Когда покоится холмиком неосевшей земли над деревянной крышкой Про- и Пережитого. Цветов там еще нет, но на кресте уже черным по жестянке выбиты даты рождения и ухода в память.
Бывает, что переслушаешь альбом каких-то ну очень приятных твоему морскому дну ребят спустя, скажем, полгода и ловишь себя на мысли... Нет, не мысли, а ощущении, что в первую неделю-две прослушивания их композиций, ты воспринимал мир немного иначе. Слова хирургическими иглами через образы тянут из прошлого иную перцепцию, отбивающуюся искрами даже в кончиках пальцев. Я всегда в этом видел нечто мистическое - спиритический сеанс общения с самим собой, оставшимся по Ту Сторону. Галлюцинирование своим "Я", покинувшем тайком отчий дом, а потом постучавшимся в Двери Восприятия, чтобы напомнить о себе, выпить чаю с ежевичным вареньем и снова уйти в пласты реальности теней. Но уловить сам момент ухода из одной Жизни и рождения в другой - никогда не мог. И тут... циферблат сошел с ума.
Я никогда не верил, что в восприятии может что-то произойти подобно взрыву 13-18 килотонн тротила, равных преобразованию в энергию 0,7 граммов материи. До этого самого момента, когда время остановилось, зависло, сгустилось и... Я хочу жить. Этой новой жизнью, где руки касаются струн, словно ты впервые слышишь крик твоей новорожденной дочери. Где хочется слушать новых людей, выпускающих словами излеченных на волю стрижей. Где восковые книги старых писателей опять протягивают тебе руку в Дорогу. Страх? Да, он есть и вполне необоснован. Но этот страх - неизменный компонент любого перехода в Неизвестное, которое станет следующей Жизнью. На пути из новых ошибок, очарований, ненависти, упреков, задержки дыхания, откачивания после передозировки тоской, реанимации, дружбы, попыток самоубийств, минут покоя и смеха. Змея кусает хвост другой змеи. Из одной появляется другая и так по кругу всю жизнь.
Но теперь я видел момент Появления.
Не самое любимое

Одиночество - это как старое осеннее пальто в доставшемся от родителей плохо закрывающемся шкафу. Не самое любимое, не особо хорошо выглядящее да и редко надеваемое. Но раз пять-шесть в год именно в нем ты выходишь на улицу, чтобы отрешенно побродить под косохлестным дождем, присесть на трамвайной остановке и почитать что-то из Пабло Неруды. В городе с запахом тридцатилетнего смятения и самоиронии. "Мы должны пройти сквозь одиночество и трудности, сквозь уединение и тишину, чтобы найти место, где мы можем плясать свой неловкий танец и петь свою печальную песню. Этот танец и эта песнь являются древнейшими ритуалами, с помощью которых сознание приходит к осознанию собственной человечности", - говорит тебе чилийский изгнанник с большим сердцем.
С проржавевшей крыши падают молчаливые капли, будто их недолгий век и состоял в том, чтобы прикоснуться к "осознанию человечности". Стать печалью, не познав внутренний смысл печатного слова. Застегиваю ворот своего одиночества и прячу руки в персиковые на ощупь карманы. Вдыхаю влагу, как открываю кран в закрытой на обеденный перерыв столовой самоедства. Еще два дождя - для опаздывающего на свой кольцевой трамвай безбилетника. Промочить горло перед очередной печальной песней под этим хмурым и недовольным небом. Сорвать голос, захрипеть не в такт шагам прохожих, задохнуться первым же словом, чтобы 25-летняя пассажирка такси улыбнулась и нарисовала на запотевшем стекле косоглазого чертика. Становится душно и пальцы уже не могут расстегнуть ни единой пуговицы.
Одиночество - это как нечаянное прикосновение к своей душе. Не самой любимой, не особо хорошо выглядящей да и редко надеваемой. Но раз пять-шесть в год именно с ней ты выходишь на улицу, чтобы отрешенно побродить под косохлестным дождем, присесть на трамвайной остановке и почитать что-то из Пабло Неруды.
Le doute

В какой-то из июльских дней, явно работающих у мартеновских печей Преисподней плавильщиком и заявившимся в наш город с командировкой, я окончательно понял, что так и останусь сомневающимся человеком. Всегда и во всем. Вопрошающим инсургентом и безнадежным бунтовщиком против единообразия. Сомневающимся даже в самой необходимости сомнений. И та змея, которая кусает себя за хвост и преследует меня уже полтора десятилетия, все чаще и чаще изгибается в знак вопроса. Я никогда не знал как это - правильно и ясно, а потому не понимал, где здорово и вечно.
Нет, я - не бунтарь. И если кто-то так думает - бросьте это мнение обо мне в самый бездонный мешок с тремя одноглазыми котами. Я - тот, кто что-то постоянно ищет. Заглядывает внутрь людей и ищет там Человека, перебирает музыку, чтобы отыскать Звук, всматривается в книги, чтобы увидеть Слово. Бунт ли это? Конечно, нет. Сомнение, перевязанное бечевкой из перекрученных чувств и склеенное кровью из незаживающих порезов на пальцах. Остаюсь с теми, кому интересен, ухожу оттуда, где становлюсь деталью интерьера и восклицательным знаком. Прыгаю по троеточиям в очередном поиске окончательного ответа, неизменно беременного новым вопросом. И так всю жизнь. Каждую минуту, без расписаний быть кем-то до обеда, после и перед сном.
Терпеть не могу "или-или". Каждым гвоздем в своем деревянном гробе неуверенности, стоящем в углу душевного крематория. Душу свое "Я", чтобы вновь и вновь к нему возвращаться и поливать увядшую оградку из черных роз. Восхищаться ими, ненавидеть, бежать, раздаривать встречным, плести венки и пытаться оживить. Бунт? Против себя самого. Ведь по сути, я ничем не владею в этом мире, кроме собственного "Я". И даже в этом я сомневаюсь. Сомневаюсь в ценностях окружающего мира, сомневаюсь в попытках ухода от них, сомневаюсь в пустоте, сомневаюсь в идеалах.... Идеалы.
Свобода, Любовь, Счастье, Правда - ведь это тоже четыре всадника Апокалипсиса. Только в белых одеяниях. Требующие и забирающие за свои дары порой чудовищные жертвы. Я сомневаюсь в каждом из этих благ. Но в их отсутствии сомневаюсь еще больше. Меня пугают люди, которые замещают их суррогатами беспросветного отрицания. Сомневаюсь ли я в отрицании? Да, так же, как сомневаюсь в утверждении. Я ищу третий путь... четвертый.... пятый. Там, где даже дан всего один - самый верный, чистый и праведный. Бунтую против своего бунта и поворачиваюсь спиной, чтобы попытаться увидеть еще что-то, кроме "самого".
Не гонюсь за хорошестью, правильностью и обязательностью. Терпеть не могу, когда меня красят в белое. Изворачиваюсь, выпускаю иглы и провозглашаю: я - это я. Парадоксальное, неправильное, иррациональное, чувствующее, с постоянной болью, грустящее, самое обычное и обыденное, бунтующее против бунта, максималистское, невзрослеющее, уставшее, постаревшее Я. Терпеть не могу призывы быть каким-то. Принимаю все - ошибки, обвинения, равнодушие, отчаяние и боль. Без них я был бы не я. И сомневаюсь. В каждом сделанном шаге, но лишь для того, чтобы сделать еще один и еще. Не остановиться в поиске Покоя.
Silence de beauté

Жил-пел на берегах Невы один мудрый человек. И вот как-то обронил он в колодец чужого сознания (словно жетончик от надоблачного метро в шляпу шута) мысль о том, мол-де мир (ну, или только нас) спасут немотивированные акты красоты. Не буду утверждать, что сказанное им стало величайшим из откровений. Лично я, впервые услышав об этом, просто-напросто прошел мимо, ухмыльнувшись и вежливо склонив голову на бок. "Ах, какая диковинная безделушка!", - сверкнул мой левый глаз, а правый по кошачьи слегка прищурился. Но клепсидра в поэтическом сердце замедленного действия имела наглость перевернуться и что-то там внутри закапало, готовое взорваться.
Иногда мне нравится дарить прохожим девушкам цветы. Не потому, что хочу познакомиться или пригласить на чашечку кофе. Просто, видя их красоту, внутри возникает какое-то чувство... действия. Нет, опять же - не физического. Как же это объяснить. Ну, вот нравится мне песня или картина - что я могу? Если художник жив, то пожму ему руку и произнесу слова благодарности. А вот художественность женской красоты... В самом-то деле не подойдешь же и не скажешь: "Девушка, спасибо вам, что вы такая красивая!". Ну, есть в этом что-то для паручасовых бесед в кабинете с зеленой кушеткой. Я даже понимаю почему девушки красивые. Природа как-то хитро сплетает кометы на обратной стороне Луны и... вуаля! Но все же некоторые из них вызывают такие же чувства, как картины Моне, стихи Блока или рапсодии Дебюсси. Словно, солнечный удар в полночь. Даже не успеваешь понять, что произошло, а город расплылся акварелью. Хочется просто смотреть.
Я даже не знаю, что делать в такие моменты. Единственный выход - купить цветы. И для каждой красоты свои. Для блюзовой рыжести - лучше подходят полевые или ромашки. Для декадентского нуара - красные розы или лилии. А вот с отблесками блондинок никогда не угадаешь, но уж точно будут неплохи хризантемы. Почти у каждой будет удивление на простом, едва тронутом косметикой молодом лице. Почти каждая спросит: "Это мне? А почему?". И вот тогда стоит просто пожать плечами и сказать: "Считайте это немотивированным актом красоты". И уйти, не нарушая минуту дальнейшими разговорами. Да, скорее всего тебе в спину будут смотреть удивленно, а, может, недоуменно-равнодушно или разочарованно. Какая разница. Красота должно оставаться в тишине, даже если это тишина твоей головы.
Я благодарен тому, что небо время от времени позволяет мне увидеть женскую красоту (причем абсолютно разных возрастов). Видеть ивовые изгибы рук, несимметричные черты лиц, восточный разрез глаз, ямочки на щеках, непослушные вьющиеся пряди на шее, утонченные профили с горбинкой, вороньи брови.... Высшее творчество природы в человеческой внешности. То, на что нужно смотреть и попытаться выразить словами. И сказать "спасибо" простым цветком, который тоже здесь и сейчас прекрасен.
Метаморфозы. Гидеон
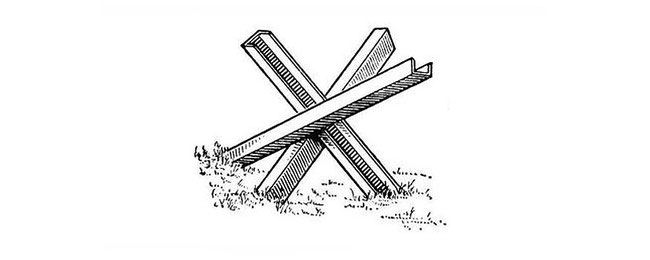
(при написании этого текста автор сохранял не только здравомыслие, но и отдавал себе ежеквартальный отчет в написанном)
Ёж Гидеон никогда и ни у кого не пользовался особым расположением. Он не был смазливой лисичкой и пухленьким котиком тоже не был. А уж забавным енотом и подавно. Гидеон был просто ежом. Пыльным, недовольным, да к тому же напрочь отрицающим объятия различных форм и содержаний. Он был заурядным, среднестатистическим лесным существом с ортодоксальным взглядом на жизнь и межличностные отношения. Единственное, что отличало его от собратьев - умение изъясняться человеческим языком. Время от времени это нравилось детям, а вот взрослые... Взрослые отчего-то невзлюбили Гидеона: женщины - за постоянное цитирование Отто Вейнингера, а противоположному от дам полу просто не нравилась его слишком интеллигентская рожа, очки и привычка постукивать оными по чем ни попадя.
Еж Гидеон был зверем с богатым духовным райцентром, хотя и существовал, как простой ёж. Он не имел ни малейшего понятия, что такое богатый духовный райцентр, но его привлекал запах водки и наполовину полные собрания сочинений Достоевского. Он находил в них что-то общее. То ли воспоминания о бабушке по дикобразьей линии, которая во время войны работала на заводе Singer и строчила парашюты для бойцов тихоокеанского флота, то ли идею о единстве геометрического времени. Одним словом, он просто не забивал себе голову ненужными яблоками с Древа познания.
Как у любого живого, а уж тем более лесного, существа, у ежа был недоброжелатель. В случае Гидеона им оказался инспектор ДПС Эдгар Аркадьевич Мардуков. Да-да, не всегда мальчики с именем Эдгар становятся пианистами, копирайтерами и кинозвездами. Иногда судьба вручает им полосатый жезл, дабы они придавали движению логический смысл. Нет, не то, чтобы еж не нравился Эдгару, как представитель дикой фауны, а уж тем более конкурент флоре... Просто Гидеон и Эдгар имели разные взгляды на свободу воли и детерминизм. Вот по этой причине каждое появление Гидеона из лесу было обречено на провал. Моральный, дорожный и временной. Эдгар вызывал в еже не только естественный для животного габаритный комплекс неполноценности, но и приступ неуверенности в своем зверином происхождении. Инспектор ДПС говорил с ним, как с человеком, при этом не испытывая к Гидеону ни малейшего уважения, как к личности. В принципе, обычная ситуация в разговоре представителя власти с Человеком. Гидеон не любил вопросов, он любил их задавать. А беседы, бывало, затягивались на два палеолита и еще полтора бутерброда, которые инспектор брал с собой на работу.
Сам же Гидеон не очень любил два вида субъектов окружающей действительности - саперов и тех, кто оставляет после себя мусор. Первые, спотыкаясь об него, как-то неточно упоминали его происхождение, говоря: "Еж, твою мать...". Вторые же вызывали в нем некое (совершенно логически необоснованное) презрение. Понять природу этого чувства ежу было непросто, отчего он относил его к общелесным коллективным инстинктам.
И все же ёж Гидеон был настоящим. В прямом смысле этого слова - он настаивал на своем праве на существование. И настаивал настолько убедительно, что однажды утром почувствовал в себе силы стать чем-то большим, чем ёж. Проснувшись в половине седьмого утра между 105-километром и загадкой Эйнштейна, он осознал себя существом, способным летать. Гидеон стал сфинксом у врат города где ни зимой, ни летом не отцветает и так далее. Вы говорите, что такого не может быть, что сфинксами так никто никогда не становился. А откуда вы знаете, кто и как становится сфинксом? Ведь Гидеон же им стал.
Последний шаг

Задавая вопрос "Почему был сделан последний шаг?", просто обернись и взгляни на следы. Не сравнивай их с чужими, не сличай с иллюстрациями в пособиях по выживанию, не слушай тех, кто говорит, что видел точно такие же. Просто прочти каждый из них, как главы одной ностальгии, ничего не пропуская и не добавляя из слухов. Узелок за узелком, перекресток за перекрестком, воронка за воронкой - до самого прыжка в пропасть, перехода на другую сторону улицы или путешествия в дождливую комнату, где исполняются желания. Прочтя каждый из них, ты, нет, не получишь ответа на свой вопрос, но, быть может, поймешь, что путь был сам по себе важнее этого последнего шага. Ведь последних шагов не существует, а дороги - бесконечны.
Nemo

Просто я снова надел наизнанку свою истрепанную душу сорок второго размера, по привычке приколов к ее подкладке беззаботность лишнего позавчера. Где это видано, спросите вы, чтоб в таком облике можно было ходить на людях, да еще в наше-то время? А я вам не отвечу - так и знайте, просто пройду мимо, насвистывая что-то из разгульных мелодий оркестра сержанта Пеппера. И не цокайте мне вслед своими рыжими усами, просто в последнее время мне нечего надеть, а дыры... Ну ведь видите - там аккуратные заплаточки из нескольких недель прошлой осени и два гипсовых бюстика - журавля и синицы....
...никогда не был там, где она семнадцатилетней танцевала в черном белье после двух стаканов молдавского вина под морфинную "Buena" на письменном столе. И там, где в двадцать резала себе запястья под проявочным светом в абсолютнейшей тишине. Не ходил ее узкими улицами с разрисованными ржавым гвоздем кирпичами - "Radiohead", "Будь верен своей голове", "Жизнь - это не говно". Не держал ее за руку на крыше разрушенной больницы, не обнимал за острые ключицы, не читал наизусть "Письмо Татьяне Яковлевой" с едкой улыбочкой в кармане изодранных джинсов. Никогда не спал с ней в обнимку под настойчивые морзе-сообщения октябрьских веток в стекло. Нет-нет-нет, она не говорила мне сдержанного "Будь ты проклят", не вынимала из петлицы розу, не кидалась в открытое окно, чтобы проваляться два месяца консервной банкой в реанимации. Я не подносил ей стаканчик дрянного кофе на трамвайной остановке, не согревал коричным дыханием дрожащие руки, не развязывал зубами фенек, не строил планы жить в Калининграде до ее второго выпуска...
... она никогда не слышала звона колокольчиков на моем рюкзаке под проливным солнцепеком в двух километрах от города. Не читала моих поцелуев на запотевшей радужке уезжающей без прощания электрички. Не смотрела в те же окна, что и я - перетянутые крестами отчаяния со слабым огоньком надежды в бусинках детских глаз. Ей никогда не было интересно говорить со мной о мертвых французских поэтах, приправленных пряными немецкими мыслями конца XIX века. Ее не вдохновляли мои ребячества и глупости на тайной прогулке у заброшенного завода, где ветер снимал шляпы с крыш и представлялся спившимся бас-гитаристом Bijelo Dugme. Она не вытаскивала меня пьяным из городских луж, где я ловил падающие звезды в свое сердце. И уж точно, не знала, что я могу летать, не отрываясь от земли - разбитым сарказмом в свои воспоминания. Ей не было со мной скучно на концертах, радостно в перерывах между обстрелами, тошно по пути в очередной поэтический притон, страшно во время случайных разборок. Она не проживала со мной за час две темнейшие эпохи Средневековья....
У нас, казалось бы, с ней нет ничего общего. Кроме моего вопроса: "Извините, девушка, а не подскажите, как мне пройти на автовокзал?" и ее ответа: "Конечно. Сейчас свернете направо, там увидите грифона с отбитой лапой. Обойдите его кругом и весь мир перед вами, как на ладони".
Мы друг другу - никто.
Теория абсурда. Рetit miracle ordinaire

Было 27 сентября. Нет-нет, я не совсем точно называю дату. Разбитое в невозмутимо-беззаветный миссисипский блюз и вывернутое наизнанку от бессилия 27 сентября. Таким 27 сентября можно было бы, пожалуй, награждать самых отпетых городских голубей, которые нет-нет да и нагадят на парадный костюм за две минуты до торжественной речи на похоронах любимого дядюшки. А еще местные рассказывают, что подобными 27 сентября здесь украшают бродячие домики подопытных крыс и каморки внештатных кухарок в передвижных балаганах. Стоит такое 27 сентября заварить в черном глиняном чайничке и оставить побеседовать с самим собой на две эпохи пятиутренних бесед, как будьте уверены - в дверь к вам постучат. Правда, дверь окажется вовсе и не дверью, а тем самым дном, ниже которого вы думали уже и не опуститесь.
Что же. Было 27 сентября. Хотя, по сути, какая разница - было оно или прошло мимо. Или его вовсе выдумали подвыпившие металлурги из Выксы, приехавшие выступить на бизнес-форуме, но волею случая ставшие участниками первого полета к центру временной противоположности чёрной дыры. Да и не совсем важно что это был за день. Просто шел дождь. Ну, опять же. Как шел - монотонно тянул за собой телегу с цыганчатами, наигрывающими на самодельных гармошках «Somebody to Love». Нудно и бессмысленно, словно мельчуковская лекция по теории «Смысл - текст» на четвертой платформе Пензенского железнодорожного вокзала вышедшим на перекур дворникам. Беспощадно, словно выгравированная на чиновничьих касках строчка о коленонесгибаемости целого угольного региона.
Было 27 сентября. Шел дождь. И возле киоска с сигаретами стоял мокнущий клоун. Грим еще держался, словно последний боец Человечества во время Зомби-Апокалипсиса за свою голову уже окруженный толпой полутрупов. Клоун ел мороженное. Немного наклонив голову набок и смотрел на небо. И там, куда был устремлен его прищурено лукавый взгляд, уже начинали расходится тучи. Я, право слово, сам положил на спину зонтик и посмотрел туда же... англичане называют это "Лестница Иакова" - сумеречные лучи создавали видимость короны над этим городом. Знаете, это немного странно стоять среди холщовых луж рядом с поедающим мороженное клоуном, подвывающей дворнягой и так втроем смотреть на небо. И вроде в этом нет ничего такого странного. Но вот чувство чуда... Непонятное чувство восхищения происходящим - это запомнилось мне надолго. Серый день 27 сентября. Когда шел дождь.
Danse macabre. Танец исчезнувших дней

Иногда дни исчезают из жизни. Высыхают, как капли водопроводной воды на непротертом досуха винном бокале. От таких дней остаются лишь серовато-мутные разводы и неприятный скрип полуоткрытых посудных шкафов. Каких-каких? Ну, тех самых, где впившись друг другу в ключицы задорно отплясывают никогда не покидающие нас скелеты на осколках разбитых надежд и проржавевшего честолюбия. Наступают нам своими заточенными костями на горло, прижимают к полу и вот уже ни один из самых аппетитных кусков этого мира не способен нас соблазнить. До тех самых пор, пока мы не решимся съесть этих некротанцоров целиком, глотая каждую кость и чувствуя, как те царапают запоями, стихами и безумствами душу.
И вот они уже живут внутри нас. Перетертые, согретые и выпеченные во что-то невообразимо театральное, оправданно-аппетитное и изначально чуть заплесневевшее. Блюдо для старости и поучительного жизненного высокомерия. Вот такого мертвеца несложно время от времени вытаскивать наружу, ощупывать его гладкий череп, пожимать кисти и пересчитывать позвонки. Труднее его засунуть потом обратно. В свою маломерную душу, где и так уже валяется невынесенный с прошлого счастья макет радуги и пять бутылок отменнейшей, но прокисшей печали.
Можно вспомнить, что ты делал в такие исчезнувшие дни, но на самом деле их просто не было. Как тетрадей по геометрии за 9 класс. Как майского жука с оторванными крыльями и отданного на съедение пауку. Как улыбки в закрытых ладонями от испуга глазах. Эти дни становятся фамильной картиной твоих мыслей, где очень красочно, но уже бессмысленно, запечатлена никому неинтересная битва. И этих дней становится все больше и больше, превращаясь в настоящее кладбище повседневности, посреди которого круглосуточно работает кабак. Да-да, тот самый откуда каждый день выносят еще одно недоплясавшее тело и тут же хоронят под крик новорожденных.
"Сего момента почил такой-то день..." О, нет! Не за правое дело и не за левую идею. Он почил от ненужности и одиночества. От него нам остались заложенные в ломбард моргающие часы, долговые расписки и не очень уж поношенный костюмчик. Ну что ж, все не так плохо. Его имя будет хотя бы записано в церковную книгу всемирной сети, чтобы кто-то зажег поминальный лайк и помянул усопшего секундой усмешки.
Vingt-cinq minutes à minuit

За двадцать пять минут до полуночи сдавленным криком звонка земля и одиноко изящны распускающиеся ледяные розы. И вновь переворачиваются песочные часы Арво Метса, и вновь в детских комнатах оживают узорные пляски давно исчезнувших растений, и снова мертвецы запускают воздушных змеев с потрескавшихся крыш пятиэтажек. Пальцы путаются в каштановых волосах и исчезают различия между временами года. Для "двадцати пяти минут до полуночи" нет вокзалов, танковых марш-бросков, остывшего мате и одиноко курящей на полу девушки. В это мгновение растворяются города, стихи, пластинки английской "новой волны" и скрипящие пружины страстей. Все замирает на какую-то долю бесконечности, на поворот головы и мимолетный запах полыни из приоткрытого люка рейсового автобуса.
Хотелось бы остановить этот миг хотя бы словами, ведь именно в этом сейчас-на-выдохе берет свое начало Гармония, единозвучащая консонансом и диссонансом всего сущего. Все прощено и подшито в амбарный альбом небесного ростовщика, чтобы через какое-то время занять свое почетное место в Музее риторических фигур. Вечный праздник несовершенства и неоконченных молчаливых бесед сжатых ладоней. Где-то здесь трубочист Любовь потерял свою шляпу, а дирижер Эгоизм под аплодисменты непришедших зрителей свалился пьяным в оркестровую яму милосердия. Я все чаще стал бояться эту семейку каторжников Двадцать-Пять-Минут-До-Полуночи. Говорят, что их дедушка оседлал Вавилонскую Башню и отправился оттуда прямиком в следующую минуту. Никому не пожелал бы такой участи, но он вернулся и стал проповедником скалам.
Если вы повстречаете за двадцать пять минут до полуночи хотя бы одного черного кота - скажите, что из запасного ключа от подвала с крысами я сделал флейту. А еще я исчезаю в весне, в толпе, в лужах, в синеве.... Знаете, Арво, переворачивайте свои часы снова, я раскрыл ладонь для этого маленького перышка без птицы.
Quart de siècle

Когда-то мне было четверть века. Много ли это? Да как сказать... По возрасту вроде и больше, чем любому из бродячих псов, но меньше большинства из любимых мной книг. Вермут в подъездах, мелочь в карманах и уже изрезанная воспоминаниями восковая душа. Тогда я себе казался случайно попавшей на проезжую часть страницей из романа Рэя Брэдбери. И думал, что ветер проезжающей мимо попутки поднимет меня вверх, я прилипну к боковому стеклу какого-нибудь желтого троллейбуса, а пассажиры начнут с упоением читать написанное. Не поднял. Не прочитали. Размок.
Еще я любил зеленый чай. В термосе. На рельсах. В пропитанном озоном воздухе. Любовался, как акварелью растекаются над городом тучи, вникал в танцующие узоры степных трав и смотрел на подходящую с букетом полевых цветов девушку.
Молчать.
Пить остывающий чай.
Говорить о книгах, музыке и забавных случаях из жизни.
Так останавливалось время. Раскрывался зонт и под неритмичные удары крупных капель начиналась еще одна история. Бисеринки слов одна за одной нанизывались на леску минут, связывая воедино время и пространство.
Закрытые глаза.
Голос девушки звучит, как шуршание песка в часах из богемского стекла. Я слышу его даже сейчас. Те же истории и небылицы. Сюрреализм Бретона, нарисованный жизнью шахтерского поселка и растворяющийся в грозовом сиянии неловких пауз. Магическая деструкция, разрывающая холст обманчивой самоочевидности обыденного.
Синие ленты в волосах.
Прогулка в мокрых кроссовках вдоль ржавых змеящихся дюкеров и споры о жизни. Довольно простые, незатейливые с щепоткой горечи и июньского разнотравья. Возвращение. К своим проблемам, рабочим хлопотам и лязгу железных занавесов.
Мне когда-то было четверть века. Я не помню каких-то психологических изломов. Не знаю, что там выдумывают о возрастных кризисах и проблемах социальной адаптации. Я помню чай. Рельсы. Дождь. И девушку с синими лентами в волосах.
Всесожжение

Самосожжение - именно так представляется мне нынешнее общество "за" и "против". Вечный огонь потребления, неутомимо освещающий нашу жизнь, все ее укромные закоулки желаний и проспекты устремлений. Нарисованный мемориальный очаг в каморке спивающегося шарманщика, память о возможности согреться, лукавая жертва пожизненной мечты - гореть и не выцветать. И хоть самосожжение нарисованное, но мы сгораем дотла, до самой бесцветной сажи, так никого и не согрев, не осветив дорогу и даже не оживив самого себя.
L'habitude de vivre

Мне часто снится, что я выбрасываюсь из окна. Весь процесс происходит так отчетливо и привычно, будто я открываю двери родительского дома. Я помню каждую подробность этого действия - что чувствую, что думаю и что делаю. Заношу ногу на пластиковый подоконник, другой отталкиваюсь от стула и высовываю наружу голову. Долго, с предвзятостью покупателя подержанных авто, смотрю на открывающийся внизу серый эшафот. Преодолеваю в себе страх и... ныряю. Чувствую сокращающееся пространство, жду завершения постановки, представляя свою смерть, как окончательную и не имеющую продолжений черноту.
При этом я с детства панически боюсь высоты. И хоть в последнее время мне часто приходилось бывать на крышах, но я продолжаю испытывать непреодолимое чувство скованности и некоего психологического онемения перед уходящими вниз метрами пустоты. А вот во сне я почему-то выбрасываюсь из окна. То есть сознание выбирает самый некомфортный для меня способ смерти. Хотя страх кажется вполне преодолимым - словно заглушаешь в себе чувство неудобства, проходя мимо то ли пьяного, то ли скорчившегося от инфаркта прохожего на газоне. Прыжок и ты... не умер, а уже закружился в сумбурных хитросплетениях нового сновидения. Но прыжок все равно остается в памяти. И еще стремление смерти.
Не беспокойтесь - я не хочу покончить жизнь самоубийством. Мне просто снится, что я выбрасываюсь из окна. Почему? Постараюсь объяснить на примере. Когда-то, по неопытности, я решил полезть на один из наших террикон напрямую. У многих терриконов есть "дорога подъема" - либо тропинки, либо автосерпантин, по которому на отвал заезжали грузовики. А напрямую - это просто по склону. Лез, лез, лез... Пока на 2/3 пути не понял, что устал. И устал настолько, что больше не смогу подняться ни на 50 сантиметров. Сел на камень, торчащий из склона, и посмотрел вниз. И так стало внутри все тягостно, что самым простым вариантом завершить это все "восхождение" было сброситься вниз. Никогда ранее неиспытываемое мной чувство отчуждения и всепоглощающей безразличности. Я хорошо запомнил это чувство.
И это то самое чувство, которое испытывает мое "Я" перед тем, как выброситься из окна во сне. Жизнь в тот момент представляется чем-то вроде процесса волочения. Будто какое-то медленно движущееся животное тащит тебя на веревках, на концах которых крючья, вонзенные глубоко под позвоночник и лопатки. А ты лежишь лицом вниз, медленно стирая его о бесконечно серые узоры асфальта. И тут понимаешь, что тянущее тебя животное - это привычка жить. Инерция, которая стирает тебя в кровь по дороге, ведущей неизвестно куда. И во всем этом процессе нет ни смысла, ни идеи, ни счастья. Лишь страдание и мучение.
Своего "Я" во сне я прекрасно понимаю. Оглядываясь на окружающее, невольно проникаешься идеей бессмысленности всего вокруг происходящего. Как там было у Блока: "все - прах, все - тлен, все - суета". Идея потребительства меня до сих пор не прельстила - я не гоняюсь за дорогими вещами, не коплю на новый Айфон, не стремлюсь заработать "сто тыщ мильонов", чтобы купить себе маленький буржуазный домишко с немецкой машиной в гараже. И уж точно я вряд ли буду с кем-то "меряться" стоимостью своих вещей или "девайсов". Я просто их не могу себе купить? А зачем? К вещам у меня всегда был практичный подход. Они нужны, чтобы выполнять свои функции, а не приносить счастье наклейками с дорогим брендом. Власть? Ну, это тоже процесс "меряния". От того, сколько ты людей может заставить работать, до того, какой у твоей страны ядерный потенциал и насколько далеко летают ракеты. Песочница больших пацанов, где вместо веток и лопаток - смертоносные игрушки. В этом отношении взрослость является лишь возможностью убивать живых людей, а не выдуманных "орков" и "фашистов".
Единственное, в чем я вижу смысл, как я уже писал ранее, это духовные и интеллектуальные ценности человечества, среди которых первое место занимает искусство. Но это, по сути, лишь приятные дополнения нашей жизни - сопутствующие, но не главные. Глобальные идеалы? Да, я - идеалист. Но, в то же время, трезво оцениваю мир и понимаю, что здесь и сейчас воплотить в жизнь идеалы невозможно. Так что же? Понимать своего "Я" во сне, понимаю. Но зачем он это делает - ума не приложу. Быть может, он уже сдался. Или хочет о чем-то предупредить. А, может, научить. В любом случае, мне часто снится, что я выбрасываюсь из окна.
Механизация

Чаще всего я думаю о том, насколько механизирована вся наша жизнь, сколь тщательно подогнаны друг к друг шестеренные зубья привычек, суждений и действий. Прислушиваясь к мерному движению выстроенного собой же механизма, возникает неуловимое желание нарушить четкий ритм и застыть последним скрежетом металлических поверхностей. Ведь вся эта громоздкая механика - не что иное, как самопыточная машина, в которой мы перемалываем свое "Я", придавая ей иллюзию движения. Пока эта машина гудит и перебирает шестернями, нам все кажется, что мы куда-то идем, но на самом деле ее металлические корни надежно влиты в фундамент.
Le sarcophage

Странная мысль: не я пишу тексты, а они все больше начинают писать меня. Вернее, создают слепки-саркофаги, схожие по внешнему виду на меня самого. Двойников, застывших обелисками и бюстиками в словах, а потому далеких от того, кто, к примеру, сейчас смотрит в молочное небо на разбитой остановке или сидит с сероглазым томиком Бротигана на бетонном парапете.
Люди, заговаривающие со мной на улице, на самом деле, стремятся связаться с тем, что было когда-то мной написано. Как воспринимаю это я? Как ритуал, порожденный их внутренней потребностью к диалогу. А чужие ритуалы стоит уважать. Но мало кто осознает, что подобные действия - всего лишь попытка поговорить с музыкой и картиной. И тут я могу быть только близким родственником того, с кем им хочется поообщаться в моих текстах. Как человек, который близко знал усопшего.
Да, под этими слоями гранитных саркофагов бьется живое сердце. Пульсирует кровь, которая время от времени вытекает наружу словами и застывает новым слепком. И чем больше я пишу, тем больше становится этих окаменений, под пластами которых уже почти не слышно живое сердце. Не потеряю ли я сам себя во всех этих словах?
Волею случая

Хоть я и не питаю большой любви к деньгам, но монеты мне всегда казались гораздо приятней на ощупь, чем бумажные банкноты. Их существование до банальности схоже с жизнью человека. Лишь появившись на свет, они сверкают не понимая своего счастья, потом, переходя из рук в руки, тускнеют от налипающей грязи, стираются и, в конце концов, выходят из торгового оборота. Но только некоторые из них, как-то зацепившись в этом водовороте рыночных отношений, волею случая приобретают особую ценность среди коллекционеров.
Автосвалка

Человек без идеала - это дорога, весьма часто приводящая на автосвалку. Сколь бы дорогим, элитным и эксклюзивным не было ваше авто, но его конечным итогом будет куча никому ненужного хлама, гниющего под проливным дождем и палящим солнцем. Вполне возможно, что по пути туда вы посетите не один придорожный бордель, заедете в несколько ресторанов с первоклассным фаст-фудом, приятно побеседуете с попутчиками и чудом избежите парочки запоминающихся аварий, но впереди вас ждет лишь помойка. Не отрицаю, что идеалы могут привести туда же, однако эти призрачные огни хотя бы дарят надежду, что вы наконец-то вернетесь к дому, который Человек уже довольно давно потерял среди бесконечных автобанов и проселочных дорог Пустоты.
Безумие правды

Настоящее безумие начинается там, где каждый верит в торжество здравомыслия и тоталитаризм логики. Там, где за чистоту правды вешают в специально отведенных стерильных палатах доказательств, воспевая это, как высшее из проявлений гуманизма. Те, кто точно знает, как устроен мир, и как правильно действовать там, где нет выбора, осужден на безумие правды. Жестокой, ослепленной своей святостью и чистотой, неизлечимо должной стать концом всего сущего.
Еще один выстрел

Если разговор предполагает собой дуэль, то молчание неизбежно заканчивается самоубийством. Погребенный вне словесного кладбища не отпевается стихами и обречен стать неиссякаемой червоточиной фантомной тоски. И каждый, кто узаконил эту добровольную жертву, уже строит внутри персональный ад. Безликий, наполненный тьмою, без единой надежды на хотя бы еще один выстрел.
Мгновение назад

Если и есть нечто чудовищней собственной веры в мгновение, где каждый из нас ощущает себя живым, то это заблуждение о существовании такой минуты в прошлом. Ужасней всего, что мы ежесекундно умираем и рождаемся, так и не осознав этого бесконечного процесса перерождений. Мы упускаем возможности начать все сначала и распрощаться с ушедшим, неся в ладонях одну и ту же никогда не существовавшую каплю отчаяния. Убеждены, что все предрешено, ослепляя будущее отождествлением себя с тем, кого мы не смогли оставить в себе самих мгновение назад.
Intervention de l'art

Кидаю в шляпу уличного флейтиста полустертую медную монету и исчезаю в туманных рантах двух с половиной вековой печали об Орфее и Эвридике. Город превращается в монохромную иллюзию, обернутую холщовым гулом автомобилей и перевязанную бечёвкой мимолетных разговоров. Даже собственное Я кажется в этом танце теней - лишь трепещущей на ветру серой нитью городского пальто. Сплетением пыльных волокон, выдернутых медной пуговицей из заводской ткани и, противореча всем законам существования, чувствующей, что ее вот-вот оторвут, как нечто некрасивое и неприемлемое в рамках общепринятых правил. Единственное, что сейчас есть для меня - красная лента нот и созвучий, повязанная сумасшедшим в честь солнечного дня на лацкан этого будничного абсурда.
Музыка, стихи и живопись не могут не сводить с ума - стоит лишь задуматься об их неприемлемости в привычном канцеляризме жизни. Да, в жизни есть то, что не претендует на нашу размеренную обыденность. То, что мы научились называть "отдыхом для души". Художественные музеи, получасовые чтения перед сном и мр3-шкатулки с вакуумными каналами связи. Резервации времени и пространства, тщательно огороженные нами от нашего же житействования. Не только, чтоб побыть с искусством наедине, но и не допустить интервенцию необычного в привычное. Строго дозированное восхищение тем, что "одухотворяет/очаровывает/пленит", но должно знать свое место и время в плотном графике дел и проблем.
Допустим, вы идете на работу. Да, ту самую, где есть должностная инструкция и, порой, даже допускается творческая инициатива. Правда, творчество своеобразное - утилитарное и строго функциональное, не выбивающееся из конвейерного ритма общего дела. Вы уже приступили к каким-то делам и тут смс от друга: "Живущие у края пустыни - становятся бессмертными, теряя счет песчинкам в часах". А у вас отчеты, планы, мероприятия, завал с деталью, которую нужно было сдать еще в среду, или, хуже того, нераскрытое убийство. И, быть может, в выходной день, где-то в парке вы бы и подумали над этой милой лирико-философской заметкой друга, но... Или все же не "но" и ответите что-то вроде: "Каждая пустыня тоскует об океане, помня, что в прошлом у нее была глубина". Конечно, ответ может быть другой. Но есть ли этим рассуждениям место в том, что составляет 2/3 нашей жизни?
И если бы я был арт-террористом, то обязательно взрывал бы всю эту размеренность зенитными залпами Прокофьева и Джона Лорда, в заявлениях и отчетах ставил растяжки Маяковского и Джангирова, и обязательно выпускал бы на волю серых стен полотна Яблонской и Моне. Без сожалению расстреливал жилые кварталы усредненной культуры тяжелой артиллерией импрессионистов, футуристов и постмодернистов. Быть может, глупо и бессмысленно сшивал две реальности, столько веков сосуществующих рядом, но до сих пор разделенные на зоны теми, кому нужны четкие выполнения задач и прибыли. Пока же... кидаю в шляпу уличного флейтиста полустертую медную монету и исчезаю в туманных рантах двух с половиной векового мифа об Орфее и Эвридике.
Единственный путь в небо

У всякого моря есть свой предел. Можно долго скитаться по водным просторам, наслаждаясь ветром, криками альбатросов и таинственной глубиной, куда так никогда и не нырнешь. Наполнить карманы парусной романтикой и грызть сухарики в ожидании цинги. Можно даже одичать, став загадочным призраком без головы, наводящим ужас на жителей тех островов, мимо которых течение проносит твою посудину. А в конце концов поселиться на острове белозубых южанок, являясь им во снах гнедым кентавром в сиянии полной луны. Можно стать морским волком, присягнув на верность Ее Величеству Медузе с полуострова Туманных Башен, и топить во славу темных богов пузатые галеоны напыщенных скупердяев-купцов. И все из любви к морю.
Мифическое информационное поле, в котором мы все нонче варимся, представляется мне как раз чем-то вроде вест-индийской акватории века эдак XVI-XVIII. Вся жизнь - морская стихия. Одно печалит - голубизна моря, вызывающая восхищение прожженных мореплавателей, всего лишь отражение неба, на которое редко кто из одноглазых пройдох пристально смотрит. Ведь оттуда они ждут лишь попутного ветра, штормовых набегов или штилевой комы. Небо моряки всерьез не воспринимают. Ведь жизнь здесь - среди волн, морских чудовищ, "летучих голландцев" и портовых девок. А в небе... неизвестность, пугающая мифами о небожителях. И лишь горизонт не врет - море и небо сходятся.
Наверное поэтому я и хотел бы смешать воедино небо и море, сплавив их голубизну в единую картину. Без отражений, но с постоянным проникновением в неизведанное. Как и профессор Шарль Швейцер, дедушка Жан-Поль Сартра и большой любитель театральных эффектов, я пришел к довольно простому выводу - поэтическое созерцание выше философии. Ведь именно поэтическая часть человеческой природы это то, что наделяет наши корабли и плоты воздушными парусами. То, что позволяет покинуть пределы моря и выйти в небо. Расправив полотнища, исследовать неизвестность и прокладывать путь к звездам. Вне агрессии, власти и ненависти. Ведь даже философия падка на эти человеческие слабости. Впитывает, перерабатывает, оправдывает и даже облекается в поэтическую форму. Но вот поэтическое созерцание - это единственный путь вверх. Я не шучу. Именно это умение проникать в воздушные просторы способно побороть морскую спесь и вернуть человека в единственную его Родину - внутреннее Я. Те самые бессмертные земли, от которых нас все дальше и дальше уносят морские просторы.
Обращение к живущим на планете Земля в новогоднюю ночь.

И пусть же мы все будем трижды счастливы!
С этих слов я и хотел бы начать традиционный предновогодний спич простого горловчанина ко всем и каждому, кто услышит его среди белого шума информационной свистопляски. Я не чиновник и не политик, дабы щедро навешивать вам, товарищи и читатели, макаронную "гуманитарку" и чего-то там в перспективе отгружать в три короба и крохотную вагонетку. Всего хорошего добьется каждый из вас сам и только того, на что хватит его сил, терпения и желания. А плохое... Одноглазое плохое прикатится само, вцепится кривенькими коготками в самое аппетитное место и будет назойливо напоминать о себе неприятным запашком оптимизма из склепов надежд еще очень долго.
Уходящий год, как и его старший более уродливый братец, научили меня одной главной вещи - ничего не планировать и не загадывать наперед. Потому что возможно все, что вы считаете сказочным... ммм... идеализмом. Либо все то, что "не может произойти в наш просвещенный XXI век". Может, да еще и ого-го в какой степени. Причем, как самое плохое, так и самое хорошее (как и наиболее крайне нейтральное). Требуйте невозможного. Настойчиво ищите третий (а то и четвертый с пятым) путь там, где вас ставят к стене "или-или". Говорят, мол у еды существует два выхода. Но хирурги всегда доказывают, что возможен еще один. Все в ваших руках, даже если их уже оторвало по локоть. Оптимизм? Отнюдь. Я давно понял одну простую вещь - вокруг все и всегда плохо. Однозначно ужасно, безысходно и покрыто тленом. Но это никак не связано с деятельностью человека. Вопреки всему этому нужно продолжать движение. Даже если ничего не выйдет, вы все равно ничего не потеряете. Зато есть шанс на счастье, если все же что-то получится. Маленький, под капельницей и с мандариновыми шкурками на тумбочке, но все еще живой.
Ни политики, ни писатели. ни телеведущие не сделают того, на что вы способны сами. В духовном, рабочем и даже социальном плане. Да-да, своими ручками, которые вы считаете слишком слабыми, чтобы поднять тот или иной груз. И вот этим самым разумом, который в вас целенаправленно притупляют, и вы уже решили, будто бы он ни на что не способен. И этими ногами, не столь красивыми, как вам хотелось бы, но прошедшими уже не первый десяток лет, а значит способными двигаться дальше. Поэтому я не буду желать каждому из вас ничего в наступающем году. Каждый из вас добьется всего сам и только сам. А все эти пожелания и обещания - не более чем добрые намерения в попытках встать вовремя на работу в выходной день. Ведь, как писал известный аргентинский библиотекарь Хорхе Луис Борхес: "Жизнь движется делами, а не рассуждениями. Бог для нас приемлем тогда, когда он утверждает «Я есмь Сущий», а не тогда, когда провозглашает и анализирует, как Гегель или Ансельм... Бог не должен быть богословом".
La marche

Одна из юношеских привычек, которая до сих пор не покрылась ржавчиной среди житейских брелочков-ярлычков на моем выцветшем рюкзаке быта - прогулка по городу. Да, да - "одиннадцатым маршрутом", по тротуарным озерам асфальтных континентов и вязкой жиже дворовых чарусов. Не потому, что сколько-то там лет назад это стало западным урбан-трендом (я даже не знаю каким "-ингом" оно обзывается у тамошней "продвинутой публики"). И дело не в здоровом образе жизни. Да и денег на проезд мне тоже хватает. Ностальгия по цоевскому "бездельничанию"? Ну, вот это ближе к истине. Безобидный бунт против взрослой распланированности и правильности. И, чем меньше у меня остается за всеми делами свободного времени, тем сильнее этот протест.
Иногда такая прогулка превращается в фантастический поход за золотым руном, которого, в принципе, не существовало в момент выхода из порта. А порой в этом есть что-то от кидания кубиков на удачу. Ты никогда не знаешь, кого встретишь среди исхоженных до состояния космологической сингулярности улиц и что произойдет дальше. В этом мне видится некая свобода... Когда полностью отдаешься круговороту событий, горизонта коих не способен предугадать никто. Поход может закончиться историей о двух китайцах, которые вычерпывали море ладошками, а потом сами стали каплями воды среди небесного океана. А может привести на репетицию неизвестных ребят, играющих блюзы не хуже самого Джека Уайта и исчезающих впоследствии навсегда. Но бывает и так, что в открытом конверте остается лишь пустота пройденных километров.
Лет в семнадцать я любил наблюдать за городом и его жителями под теплыми плащами Jethro Tull, Uriah Heep и Аквариума. Теперь это и Motorama, и Blue Cheer и даже рассказы Борхеса. Дальше, быть может, я дорасту до века XVIII-XIX, но... пока так. Среди двух главных улиц и вьющихся между ними катакомб двух- и пятиэтажек я провожу уже далеко не часы. Это небольшие обрывки календарных листков, разукрашенные светляками-живописцами, которые еще в коконе насмотрелись полотен Сезанна, Ренуара и чуть-чуть Поллока.
Кто-то начал уже узнавать меня на улице. Поверьте мне, они видят всего лишь движущийся среди метеоритных полей планетолет с яркой полоской на борту, а то, что внутри... Там свое странное подключение автопилота к окружающим звездам через открытые на проветривание иллюминаторы.
Башня

(Обычно я не пишу текстов к своим фото. Но эта водонапорная башня ж/м "Комсомолец" заставила меня поднять из архивов отрывок одного из своих недописанных литературных опусов. И я решил их совместить. Что получится - не знаю, но все же. Мне кажется что тот текст ждал этой незатейливой фотографии)
"...Мощенная красным камнем дорога тянулась через степь с запада на восток. Вдоль нее сгибались под нервными прикосновениями ветра сухие травы. Многие из них ломались и, падая в теплые ладони сильфов, улетали все дальше и дальше в неизвестность.
Казалось, что может остановить движение этих живых полотен в бескрайнем степном просторе? Лишь нечто столь же древнее и величественное, как и сама степь. Подобно исполинскому зверю, распластавшему одряхлевшую тушу на смертном одре, среди бледно-желтых болезненных равнин покоились развалины древней крепости.
Изъеденное оспой времён полукольцо стен прижалось к единственной башне, издали напоминая гигантского конкистадора, устремившего ввысь голову. Красная дорога ныряла в разинутую пасть западных ворот, вываливаясь потрескавшимся от жары языком из восточных. Врата некогда великого бастиона были раскрыты настежь. Ветер гнал сквозь них клубы вездесущей пыли, по крупице обгладывая гранитные кости.
Сквозь дорожные камни пробивался остролистый типчак. Сухой, словно пальцы ткачихи, он боролся под сводами замка за право жить. Не зная прикосновений воды, трава утоляла свою жажду лишь иногда - кровью случайных прохожих. Но сейчас древняя память предков пробудила в ней смутные ожидания чего-то великого. Она впервые ощутила приближение дождя.
Башня, как и все живое в округе, замерла в тягостном томлении. Сжались в спазмах стены, наполненные степной сухостью. Застонали обожженные раны перекрытий в сгоревшей библиотеке. И даже прохудившаяся крыша захрустела суставами черепков, предвкушая хлесткие прикосновения небесной реки. Каждый кирпич представлял, как вода заполнит пыльные трещины и по артериям изможденного старика потечет прозрачная кровь. В земле зашевелятся каменные корни, оконные глазницы затянет мутная пелена стекол, а коридоры задышат под вязью виноградной лозы. Башня ждала этого каждой частицей безграничного разума, столетиями пребывавшего в летаргии. Сотни лет ей снился один и тот же сон. Сон о том, когда придет дождь.
Над бастионом сгущались темно-лиловые тучи. Солнце, нехотя уходящее за их распухшие бока, окрасило стены развалин в болезненные оттенки золотого. Приближалась гроза...
Предновогоднее обращение простого горловчанина Егора Воронова

Дорогие мои друзья, товарищи, соратники, фрэнды, подписчики, оппоненты, читатели и мимо проходящие! Без предварительных нежностей скажу откровенно - год выдался трудным, как монгольфьерная рыбалка в марсианской пустыне. И главным событием в жизни уходящей на скотобойню Истории зеленой лошади была Война. Война самих с собой, война за Человека и его свободу от зомбоящиков, ненависти, воинствующих фантомов. Каждый из нас изменился. Как? Пусть каждый определит для себя сам. Я преклоняю голову перед фронтовиками Милосердия, подпольщиками Добра и партизанами Гуманизма. Я отдаю честь тем, кто ценит Человека и его жизнь выше иллюзий и пропаганды. Я надеюсь, что каждый из вас освоил профессию садовода Жизни, а не глашатая Смерти. Верю в то, что веерные отключения Света в сердцах многих из нас были вынужденной и временной мерой.
С тяжелым философским камнем преткновения осознаю, что в этом году Спектакль лицемерия и потребительства вновь собрал полный зал. И не единожды. Скорблю над каждым купленным на него билетом и хочу верить, что больше никогда не услышу овации и крики ликования в гримерке Аида. Мне больно было видеть в уютных рядах зрительного зала любимые и знакомые лица некогда благородных Рыцарей духа и прекрасных Дам мыслей. Невыносимо осознавать, что многие на судьбоносных выборах этого года проголосовали не за партию Моррисона-Чехова-Франкла-Брэдбэри-Ганди. Трудно признать, что очередная попытка увидеть Свет-В-Конце-Тоннеля окончилась еще одной лампочкой в кабинке общественного туалета.
Спасибо тем, кто в этом году был рядом и в нужный момент не протянул ноги в бетонный тазик самоуверенности и чванства. Тем, кто начал взрывать мосты фортификационных укреплений Эгоизма и Невежества. Всем, кто не слушает, а слышит меня, я желаю не остаться в этом году. Открыть свои двери восприятия и перейти в Новый год, оставив змеиную кожу старого за порогом. В этом году я встречал тех, кто жил до сих пор в 2012-ом, 1991-ом и даже 1953-ем. Совершите алхимический прыжок и оставьте слезы, горе, разрушения и злость 2014 года в нем самом. Заклейте их в конверт и поставьте на каминную полку, даже если камина у вас нет. В новом году нам понадобятся светлые и чистые головы.
Желаю каждому из нас сил встретить цунами грядущих потрясений с достоинством последователя Бусидо и найти место в своем надтреснутом кувшине сердца для новых радостей. Считайте меня эгоистом на час, но в Будущем я хочу встречать только Настоящих Людей, а не их Тени и Отражения. Любви, Добра и Мира! С Новым Годом!
Каждый художник, который изображает небо зеленым, а траву голубой...

Сумасшедшие – люди не от мира сего. И не только потому, что у них шарики за бебики заехали. Просто мир у нас такой, что они в нем лишние. В основном, это касается тихих и скорбных головою homo sapiens. Именно они, порой, вызывают у меня вопрос «Кто в большем уме - сумасшедшие или нормальные люди?». И именно они кажутся намного человечнее и нормальнее здравомыслящих индивидов нашего общества. Может, это некая ирония высших сил над нами, вечно стремящимися к персональному добру и справедливости, но неизменно причиняющим боль и страдания окружающим?
Вот, к примеру, дядя Вася. Он же - Василий Георгиевич Шепелев. Токарь, почетный работник своего цеха и… всю жизнь слышит в голове голос Брежнева, который надиктовывает ему девятую главу «Воспоминаний». Дядя Вася человек тихий, одинокий, но отзывчивый – кому по подъезду поможет, кому полтинник до зарплаты даст. Как и у любого сумасшедшего у него есть кот. Гришка. Василию Георгиевичу кажется, что тот тоже слышит голос Брежнева. Скажите, с чего бы это? Ну, посудите сами – когда Брежнев начинает диктовать очередной абзац, то этот рыжий паршивец бросает все свои дела и садиться перед дядей Васей. Кот так пристально смотрит на токаря-романиста, что у того аж мурашки по затылку маршируют на западный фронт. Так вот. Пишет наш почетный токарь и как-то складно все у него выходит. Мол, Леонид Ильич, попавший в загробный мир, бродит там с мутантами-коммунистами, по кирпичам собирает взорванные церкви и охотится на капиталистов. После очередного написанного вечером абзаца «загробных мытарств» вождя, Василий Георгиевич идет на пруды, расположенные в двух кварталах от него. Там он часами смотрит на лунную тропинку, многократно отраженную сквозь водную рябь. Приходит в полвторого ночи домой, кормит Гришку и ложится спать. Одним словом, душевнобольной человек.
А вот, и наш с вами нормальный гражданин – Сергей. Работает региональным представителем отечественной винной компании. Живет для себя, выплачивая каждый месяц кредит за квартиру. Семьи у него нет, зато есть аккаунт в «LovePlanet», что позволяет ему раз в три месяца находить себе новую партнершу. Какие увлечения? Лаунж-бары, компьютерные игры, а также сезонные поездки на южный берег и лыжные курорты. Можно даже сказать, что Сергей старательный налогоплательщик и добропорядочный гражданин. Правда, вот животных и бездомных не любит. Но тут уж ничего ненормально нет. Ведь, правда? Да и другим помогать в жизни не стремится – правило у него такое: «Выживает сильнейший». У коллеги клиента из-под носа уведет, слух о начальнике пустит, за откат бумажечку налево напишет. Все как у людей, а, может, даже и лучше. Забыл сказать, он, ко всему прочему, ярый патриот. Терпеть не может сограждан еврейской национальности, выходцев с Кавказа и темнокожих студентов. Несколько раз даже в отделение забирали. И вроде бы за сущие пустяки – два раза с кавказцами в баре подрался, один раз вьетнамца на рынке побил (мол, тот обжулить хотел) и пару раз соседа Аарона Давидовича с лестницы спустил. Но это же ради Родины! Ну и что, что Родзаевского и Истархова читает? Каждый сознательный гражданин должен знать истину.
И живут эти два человека, буквально, в соседних подъездах. Но вот смотришь на задумчивого и улыбающегося Василия Георгиевича и на спешащего к своему новенькому Chevrolet Сергея, и не можешь понять, кто из них в большем уме. Конечно, кажется, что Сергей. Но ведь именно он пойдет первым жечь и вешать «инородцев», если появится такая возможность. Именно этот человек может стать основой нового тоталитарного государства. Такие, как он – упоенные властью, но абсолютно безграмотные «региональные представители» завтра придут к тебе и начнут расспрашивать о семье, доходах и гражданской позиции. А Василий Георгиевич…. Да, что Василий Георгиевич – от политики далек, а убить кого-то…. Он и Гришку своего никогда не бьет, если тот рыбу со стола стащит. Да и что люди там об окружающих думают – ему не особо интересно. Он честно выполняет свою работу, пишет уже который год брежневскую «Божественную комедию» и все так же смотрит на лунную тропинку, многократно отраженную сквозь водную рябь. И вы бы видели в этот момент его глаза. Словно две небесные капли, падающие в бездонный колодец. В них все – время и пространство, свобода и творчество, воля и чувства. Может быть, в них нет только ума – того самого, с которого боится сойти каждый из нас. А тех, кто с него сошел, мы готовы уничтожить, ведь чувствуем рядом с ними свою ограниченность и страх переступить грани привычного. Как говорил старик Алоисович: «Каждый художник, который изображает небо зеленым, а траву голубой, должен быть подвергнут стерилизации».
Город цвета окаменевшей водки

Возвращаюсь домой. В голове уроборосом вертится одна и та же строчка - "Мы жили в городе цвета окаменевшей водки". Не знаю уж как там ваши "петербурги" и "ленинграды", дорогой господин Иосиф Александрович, но мой город сейчас именно таков. И тут вспоминается выражение одного трамвайного пассажира (от которого пахло механическими часами и крепкими спиртными философами конца XIX века), что "водку не пьют от счастья". И этот город нельзя испить от счастья. Этому городу радуются, в агонии душевной болезни. Через силу, через вечную мерзлоту рукопожатий и через циничные мысли в спину. Где разливают такие города как этот? В каком самогонном цехе человеческих судеб? И что есть любовь к своему городу, как не любовь к алкоголю - легальному наркотику тоски. Мне вдруг отчего-то подумалось, что я стал пьяницей печали. Я стал любить антипохмельные средства английских детективных писателей и американский рассол блюза. Я стал искать себя в не-своем и прощаться с уплывающим в глубины чужих мыслей фундаментом своего восприятия мира. Город, ты готов снова напоить меня своим цветом? Тогда... выпьем твоих историй вместе?
Новогоднее обращение к народу

Какбэ вот есть над чем подумать, товарищи.... На внешней стороне наших органов обоняния - светлый праздник-Новый год. Слушающие это камрады, конечно же, уже не дети, и в Деда Мороза не верят. Дед Мороз для нас умер. Он закопан оцинкованной лопатой здравого разума и отпет краснознаменным хором имени Жизненного опыта. Но вот те хрупкие елочноигрушечные надежды, которые мы возлагали на этого детского симулякра, где-то там теплятся в наших хайтеком проеденных сердцах. Ворочают зубчатые колеса атеистической веры и порождают надежды, что в наступающем году все будет лучше. Не будет. Будьте уверены. Для нас с вами "лучшее" прикопали рядом с трупом Деда Мороза еще при рождении оного "лучшего". Я имею в виду глобального "Лучшего". То, за которое мы пьем, не жалея здоровья, ради которого пьем. Для меня светлый праздник Новый год - это похороны.
Веселые такие, с чучелами мертвого Деда Мороза и заупокойными стенаниями о "лучшем". Не верьте никому. Лучше не будет. Будет как всегда. Все будет беспросветно ужасно и до перегорания нервных центров отвратительно. И вот, когда мы все дружно поймем, что в наступающем году будет все плохо, то именно тогда появится возможность понять, что все не так уж и плохо. Не надейтесь на лучшее - радуйтесь хорошему. Здесь и сейчас. Радуйтесь, что сейчас вы не в больнице и вас окружают хорошие люди. Радуйтесь и тому, если вы в больнице. Значит, вы живы. Пора уже перестать ждать от Нового года чего-то светлого и доброго, нужно этим светлым и добрым попросту радоваться. Не ждать мертвого Деда Мороза реформ и модернизаций быта, а воспринимать все таким, какое оно есть - радостно-печальным, но неизменно живым. Сумбурным, как этот текст, и непонятным, но говорящим и слушающим. О чем это я собственно? С Новым годом, в котором нас ждет очень много плохого и очень много хорошего. С Новым годом, который станет очередным испытанием и похоронит еще много надежд. С Новым годом, который, как и старый, будет прекрасен для тех, кто примет его прекрасным и останется неизменно ужасным для тех, кто будет жить прошлым и будущим. Всех с праздником одного большого СЕЙЧАС!
О полуторном неудачнике и будильнике Трисмегиста

Трудно спорить с тем, что самое страшное в этом мире мы видим в зеркале. Каждое утро, заглядывая в этот прогнивший от сырости подвал, обещаешь себе – сегодня же вечером я наведу там порядок! Но вечером ты скидываешь туда еще какой-то хлам и еще, и еще…. А кто-то из мимо проходящих заглянет в эту бездонную яму и непременно скажет «Эй! Да у тебя там настоящий свинарник!». А потом выбросит туда и еще что-то свое - поношенную веревку для виселицы, чучело прирезанного в пятницу оборотня или пустую банку из-под психоанализов. Вы, безусловно, напьетесь и в приподнятом настроении попытаетесь спуститься в эту скорбную обитель забытых неудач и велосипедных открытий. Будете смеяться над изрезанным портретам бывших подружек и кидать заточенные карандаши в запыленные тома мертвых немецких философов. Но утром ты все равно подойдешь к зеркалу и с горечью взглянешь на лестницу, ведущую в этот Богом забытый подвал.
О, этот чудесный веснушчатый альтруизм дам сердца! Сколько раз они силились навести в твоем подвале порядок, пытаясь собрать весь тамошний хлам и выбросить его на крышу проезжающей электрички. Но пока милые энтузиастки дотаскивали мешок с барахлом до крыши, ты прорезал размером с ахиллесову пяту в его днище дыру и вытаскивал весь хлам обратно. Через пару минут ты, конечно же, ругался с этой новоявленной Матерью Терезой, а после рисовал угольком своего выжженного сердца ее портрет на ткани воздушного змея. Тот самый портрет, который через неделю займет свое вполне предсказуемое место в подвале между ящиками со свинцовыми трусами и маминой любимой вазой для натюрмортов. И сколько таких полотен ты оставил гнить под протекающей водопроводной трубой Андре Мориса? На самых ранних из них уже мало различимы черты лиц. Тебе хочется знать, что они были смазаны плачущими нарисованными глазами, но на самом деле угольные краски нашли себе более подходящее место – в тараканьих норах у парового котла.
Каждое утро ты смотришь в разинутую пасть своего малобюджетного подвала и обещаешь его сжечь ко всем чертям. Правда, до сих пор и не предполагаешь, что если черти там и заведутся, то твой подвал превратиться в малогабаритный филиал Преисподней, где весь твой хлам послужит неплохим топливом для персонального котла. Приглядись внимательней. Быть может, зеркало показывает тебе не подвал, а настоящую гробницу? Только окон в ней нет – там выход в еще один такой же подвал. Сеть лабиринтов и полупустых катакомб.
Кусочек эпохи настоящих вещей

Становится немного грустно, когда видишь выброшенные на помойку старые деревянные окна. Кусочек эпохи настоящих вещей уходит по извилистой узкоколейке времени, как и сама эпоха настоящих людей. Из-под бело-синих чешуек краски проглядывает морщинистая древесная плоть, двадцать-тридцать лет подряд хранившая от окружающего мира маленькие и большие бытовые трагедии советских семей. В жизни этих кособоких стражей бывало многое - пощечины закрывающихся на морозе форточек, стеклотрясения от ударов больных птиц и опоутинивание мертвых насекомых в межрамном нутре. А бывало, что дети клеили на стекла бабочек и окна превращались в магический телескоп в другой мир. Стекла хранят сотни, тысячи и сотни тысяч взглядов эпохи настоящих людей. Тех, кто любил смотреть на мир не через телевизор или монитор, а сквозь слегка запыленные деревянные окна. Окна, пропускавшие некондиционированный воздух, непятиканальные звуки, неосвежительные запахи и еще что-то такое, что с каждым годом мы все больше и больше теряем в своих псевдоевропейских каморках.
О прекрасном и сложно понимаемом

Очень сложно понять девушек.
Легче, да и куда более безопаснее, попытаться проникнуть в теологические хитросплетения ордена розенкрейцеров, нежели уловить ломкий хвост мыслеформ, которыми изо дня в день одаривают наш разум эти юные особы.
Все, все без исключения.
И те, что мило улыбаются, сидя напротив в общественном транспорте, и те, что по-деловому протягивают квитанции через окошко кассы. И те, которым нужно рассказать о гнетущем чувстве одиночества, и те, которые напропалую щебечут о витражных красках. И вот та, в узких джинсах цвета утреннего молока, и та с томиком Бротигана в холодных пальцах, и вот эта – вырывающая железную арматуру из разрушенного здания. Конечно, и эта барышня тоже, приносящая абрикосовым днем два бокала уставшего пива, и вот эта, что никогда в жизни не слышала песни «Tomorrow Never Knows».
Их всех, всех без исключения, очень, очень сложно понять. Но невозможно не любить.
Вот, хотя бы… кажется, Анастасия. Лицо, которой уже само по себе говорит о том, что когда-то на Земле были тысячи беглых ирландских каторжников, любивших имбирный эль и веселую джигу. А вон та – Ольга, с зажатой между пальцев кленовой трубкой. Тонкие пальцы рассказывают странные истории о всадниках южных равнин, смотревших каждую среду на луну. Или вот еще Александра, которая столь влюбчива, что каждый день подходит к календарю и спрашивает его – с кем у нее сегодня прогулка по парку, обед в кафе или занятия йогой. Каждый сантиметр ее тела хранит строгое молчание северных скал, зато в глубине сердца пляшут оливковые искры океана.
Я люблю девушек. Их невозможно не любить.
Молчаливых, играющих на гитаре, засыпающих, желающих любви, хранящих письма трехлетней давности, идущих по ржавым рельсам, ждущих троллейбус, играющих с кошкой, засыпающих под звуки осеннего ливня, везущих по тротуару детей, смотрящих на четвертый этаж заброшенной школы, предлагающих вино, осуждающих курение, борющихся за права, загорающих на пляже, выдающих зарплату, стоящих спиной, зажигающих свечи, собирающих яблоки, беловолосых, прыгающих, храбрых, зовущих на обед, с накрашенным ногтями…
Уж и не знаешь – проснешься ли в этом потоке мыслеформ, которые изо дня в день столь сложно понять.
Отрывок из V главы неопубликованной сказки "Семен да волк зубатый"

"С котомкой полной грусти да с кузовом красным от ягод приходила раз в год к Семену на край леса осень. Сухая приходила, в плаще из медных листьев, да в липовых лаптях онучами холщовыми перевязанных. Семен взгрустнет, слезу мешковатым рукавом косоворотки смахнет, а после самовар посередь хаты поставит. Тот все носиком ворочает да от осени кукситься. Вот букашек там земляных да избяных он любит, а осень – ну ни в какую.
Росточку-то осень небольшая была – восьми пядей. Да и те во лбу не валялись. Придет этак утром на порог, к щеколде с другой стороны потянется да тихонько в сени и залетит. Семен глаз-то мохнатый откроет, пятку немытую с печи стянет и давай рубаху на себя натягивать. Зевнёт, зыркнет из угла в угол и нехотя щи примется готовить. А осень сидит да помалкивает. И вот когда Семен-то самовар посередь стола примостит меж пряниками да медом, осень тут как тут с лавки спрыгнет да за ложкой и потянется..."
You can do it, too! Sign up for free now at https://www.jimdo.com











